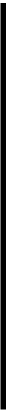|
|
Что вызывает дивергенцию форм? 10 главаНиколя Пуссен оставил нам картину с изображением пастухов, на фоне полей, которые видят надгробие с надписью «Et in Arcadia ego». Как информация о том, что смерть может настичь тебя повсюду, данная надпись довольно банальна. Как стихотворение, состоящее из четырех слов, она также мало что значит. Однако надпись на камне не является единицей сообщения. Это memento, напоминание. Надпись не ищет нас, чтобы передать нам информацию, напротив, мы обнаруживаем ее сами как связанную с определенным местом и неотделимую от фона. Если по своей природе мы склонны к размышлениям, то она приведет нас в состояние медитации, т. е. к психической углубленности и сосредоточенности, какая бывает, когда мы разглядываем неясное нам вещество или незнакомый предмет под микроскопом с целью его изучения. На ранних стадиях развития многих культур произведения визуальных искусств обычно проявляли себя как напоминания. Мы имеем в виду, в частности, и памятники, для которых значимыми оказываются места, где они стоят. Очевидным примером памятников являются статуи. Фрески, барельефы, гобелены — это неотъемлемые признаки пещер, гробниц, замков и церквей, для которых они предназначаются. Мы изучаем их так же, как растения или скалы на пейзаже. Как напоминания эти искусственно созданные предметы обладают особыми отличительными свойствами. По ряду причин они имеют ограниченную сферу применимости, часто оказываются чрезвычайно простыми. Поскольку эти предметы являются частью более широкого контекста, их функция ограничена отдельным высказыванием — они лишь добавляют элемент к чему-то еще, что передается вместе с окружающей обстановкой. Больше того, поскольку они относятся к средствам, обслуживающим такие виды человеческой деятельности, как работа и отдых, путешествия и посещения, доставка и обес- печение, богослужение, они приспособлены к человеку действующему. Они должны быть сравнительно лаконичными, адаптироваться к появлению или исчезновению потребителя. Между колоссальными головами на острове Пасхи и мраморными изваяниями на Бернине с изображениями Дафны, которую преследует Аполлон, есть разница не только в историческом плане, но и в функциях. Гигантские каменные головы служат напоминаниями — по всей видимости, объектами поклонения, целью паломничества, знаками божества. Фигуры из Бернины, выставленные в музее, передают сообщение. Они не связаны с конкретным местом или с определенной общественной функцией, а являются нам как некие утверждения о природе человека, и как таковые должны вести с нами беседу. Они заслуживают, чтобы на них было обращено внимание, и, будучи изолированными во времени и в пространстве, должны рассказать нам законченную историю. Если ритуальные каменные головы служат поводом к размышлению, то эти фигуры сами передают мысли. Аналогичное различие имеет место и для языковых текстов. Надпись на границе — это напоминание. Она принадлежит к той же совокупности знаков, что и слова ВЫХОД или ТИХО. В зависимости от своей конкретной функции языковые mementos дают инструкции, предписывают тип поведения, облегчают ориентацию. Они также должны быть краткими и выразительными, способными будить мысли. Как от бронзового креста на алтаре не требуется, чтобы он соперничал по сложности с распятием на полотнах Рубенса, а, скорее, чтобы он служил фокусом и стимулом к религиозным мыслям, побуждаемым у верующих, точно так же орнаментальные цитаты из Корана на стенах мечетей являются напоминаниями, отличающимися принципиально от исследований, содержавшихся в философских трактатах. В алтаре дзен-буддистского храма можно увидеть свиток, на котором помещена одна большая идеограмма, а перед ней цветок в вазе. Слова и цветок побуждают нас к размышлениям. Такого рода напоминания явно отличаются от того, что я называю сообщениями. Типичным примером словесного сообщения является высланное по почте письмо. Оно доходит до адресата и требует к себе внимания. Оно ведет с адресатом беседу, и можно ожидать, что оно оправдывает затраченное на него время. Письмо сообщает нам информацию и передает мысли. Развитие книги от древних каменных дощечек до современных экземпляров в бумажных переплетах — это путь от напоминания к сообщению. Нельзя приблизиться к дощечкам с возгласом: «Удиви меня!»,— но с этим возгласом вполне законно совратиться к роману-бестселлеру. Одно из намерений конкретной поэзии — повести за собой всю поэзию от сообщения к напоминанию, высвободив ее из пут книг. Поэтический сборник играет роль сообщения подобно письму, роману или трактату, однако делает это менее открыто. Он приходит к читателю словно из ниоткуда, стремясь снабдить его мыслями и чувствами. Это, в свою очередь, предполагает определенные затраты с его стороны и отношение к нему как бы со стороны оценивающего потребителя, который, если придерживается советов Бертольда Брехта, откидывается при встрече с книгой на спинку кресла и закуривает сигару. Если же подойти с такими мерками к обычной конкретной поэзии, то стихотворение нельзя определить как сообщение. Мы должны осознать, что цель конкретного стихотворения — стать напоминанием. Ярким подтверждением этой мысли может служить стихотворение Рональда Джонсона. eyeleveleye Рис. 10. Стихотворение Рональда Джонсона. eyeleveleye1 Стихотворение внешне выглядит как одно слово, но если читать ?го особым конвенциональным способом, то обнаруживается, что перед нами три слова, идущие друг за другом, причем первое одинаковое с третьим. Eyelevel напоминает читателю, как тот рассматривает ряд букв, a leveleye может вызвать какие-то неясные ассоциации. Повторение слова eye (глаз) предполагает, что мы отбросим последовательность чтения слева направо и воспримем рисунок в его симметрии. Такая перестройка структуры немедленно отплачивает нам тем, что мы начинаем видеть два глаза, глядящие на нас как бы с чьего-то лица. Настроившись на восприятие визуальной модели, мы обнаруживаем регулярное переплетение шести букв е, связывающих строчку, и Два направленных вниз столбика букв у вместе с уравновешивающими их поднимающимися вверх шестами букв l. В окружении двух l появляются слова eve (канун) и Eve (Ева), стройная симметрия которых подчеркивается всем рисунком стиха, и мы уже готовы начать размышлять над отношениями между Eye и Eve (глаз и Ева). Вся конструкция лучше всего работает, когда мозг наш еще полусонный, когда он может впустить к себе всякого, кто проходит мимо. В этом случае он застигнут врасплох или, то крайней мере, находится в достаточно расслабленном состоянии, чтобы не испортить дрейфующие образы. Очевидно, что настроение, вызываемое этим стихотворением,— 1 Глазуровеньглаз — англ. это не то повышенное возбуждение, к которому мы обычно приходим при встрече с хорошей поэзией. Скорее, оно напоминает отрешенное наблюдение за плавно движущимися по небу облаками. И действительно, контекст, наиболее благоприятный для конкретного стихотворения, лежит за пределами книги, где-то в реальной действительности. Там на него обратит внимание какой-нибудь не слишком погруженный в себя прохожий, на какое-то мгновение остановится, задумается, увидев необычное явление, и уйдет в размышлениях, поверхностных или глубоких. Мэри Эллен Солт цитирует Фердинанда Кривета, который говорит о созданных им стихотворениях, что они, по крайней мере, на первый взгляд, имеют «знаковую природу, какую имеют все тексты публичного характера вроде объявлений на улицах, вывешенных на специальных досках, на фасадах домов, на щитах для афиш, вывесках, грузовиках, на дорогах и на подъездных путях и т. д.» [3, с. 20]. Авторы стихотворений, относящихся к конкретной поэзии, объединяются со своими собратьями-художниками в желании избежать общественной изоляции, преследующей оба эти искусства по пятам еще с той поры, когда они снялись с якорей времен эпохи Возрождения и стали кочевать с места на место, никуда конкретно не направляющиеся, нигде не находящие себе пристанище, готовые за определенную плату лечь в постель с каждым. Подобно тому, как художник пытается избавиться от пустых стен в галерее или музее, поэт стремится освободиться от чар ко всему безразличной чистой бумаги и мечтает увидеть свою работу в виде указателя, афиши или иконы в повседневной суете торговли, в паломничестве и на отдыхе. И как скульпторы следуют своим путем, пропахивая борозды в пустыне или заворачивая здания в лепные покрывала, которые выглядят несерьезно, если рассматривать их отдельно от зданий, так и поэты надеются, что в восстановленном контексте созданные ими словесные образы обретут красноречие, достойное поставленных целей. ЛИТЕРАТУРА i 1. Lichtenberg, Georg Christoph. «Sudelbücher. Section J. 289». In Wolfgand Promies, ed., Schriften und Briefe, von. 1. Munich. Holle, 1968. 2. Mon, Franz. Schrift und Bild. Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden. 1963. 3. Solt, Mary Ellen. Concrete Poetry: A World View. Bloomington: Indiana University Press, 1971. 4. Williams, Emmett, ed. An Anthology of Concrete Poetry. New York: Something Else Press, 1967. О ПРИРОДЕ ФОТОГРАФИИ* Когда теоретик, придерживающийся одинаковых со мной убеждений, приступает к изучению фотографии, его больше интересуют характерные особенности фотографии как средства выражения, нежели конкретная работа какого-либо мастера. Он хочет узнать, какие человеческие запросы обслуживает данный тип образного представления и какие свойства позволяют фотографии решить свою задачу. Для своих целей исследователь рассматривает данное средство как находящееся в режиме наибольшего благоприятствования. То, что фотография обещает, волнует его куда больше, чем регистрация всех ее реальных достижений, что, в свою очередь, заставляет его быть оптимистичным и терпимым, как в ситуации с детьми, получающими кредит в счет своего будущего. Анализ этой стороны искусства требует совершенно иного темперамента, чем изучение того, как им пользуются люди. Учитывая плачевное состояние нашей цивилизации, последнее занятие часто оставляет гнетущее впечатление. С негодованием и неодобрением подходя к той или иной фотопродукции, критик имеет дело непосредственно с фактами и событиями сегодняшнего дня, в то время как ученые-аналитики, вроде меня, весьма далеки от всех этих событий и фактов. День за днем искусствовед-аналитик внимательно просматривает гору печатной продукции в надежде найти в ней хоть какую-нибудь зацепку, ведущую к познанию истинной природы фотографии, или в надежде отыскать в каком-нибудь заурядном примере редкое и одновременно яркое проявление одной из блестящих способностей фотографии. Не будучи критиком, он видит в фотографии стандартное производство, а не индивидуальное творчество, кроме того, он зачастую выглядит старомодным в своем отношении к ультрасовременным многообещающим мастерам. Не исключено, что фотограф-практик даже слегка симпатизирует такой отчужденности, ибо, как мне кажется, он тоже, хотя, разумеется, в другом смысле, занимает в своем творчестве отстраненную позицию. Все сказанное здесь мною о фотографии как изобразительном средстве, связанном с нормами и отдельными актами практической деятельности, может показаться читателю странным. Между тем профессионалы — сотрудники журналов и газет, сотни людей с фотокамерой в руках — вторгаются всферу личного и конфиденциального, и при этом даже у тех из них, кто в максимальной степени склонен к фантазии, нет иного выхода, как подойти вплотную с фотокамерой к тому месту, которое придаст всем его фантазиям * Впервые эссе было опубликовано в «Critical inquiry». Т. 1, № 1, сентябрь 1974 г. определенную форму. Между тем именно такое интимное сближение с предметом неизбежно ведет к отстранению, о котором здесь еще пойдет речь. В былые времена, когда художник ставил где-то в углу свой мольберт, чтобы нарисовать картину рыночной площади, на него смотрели, как на чужака с любопытством, страхом и, быть может, удивлением. Ведь посторонний мог только созерцать объект, но не манипулировать с ним. За исключением тех ситуаций, когда художник буквально, т. е. физически, стоял у кого-то на пути, он никак не смешивался с окружающей его жизнью. У людей не возникало ощущения, что за ними подсматривают или следят, если, конечно, они в тот момент случайно не оказывались на скамейке перед художником; ведь всем было очевидно, что художника интересуют не актуальные события, а нечто совсем другое. Только сиюминутное является личным, а художник непосредственно наблюдал за тем, что в данный момент не было, потому что это было там всегда. Живопись никогда никого не разоблачала. Другого рода социальный код защищал обоих действующих лиц в студии фотографа. Позирующий, подавив на время свою непринужденность и придав лицу и фигуре наилучшее выражение, как бы приглашал внимательно всмотреться в него. В беседе не было никакой необходимости, пропадала прелесть общения, и Я получало все необходимые санкции, чтобы внимательно разглядывать и изучать Его,как будто это было Оно.То же самое можно сказать и о фотографии на начальном этапе ее развития. Аппаратура была тогда чересчур громоздкой, что не позволяло фотографировать ни о чем не подозревавших людей, а время экспозиции было достаточно большим, чтобы стереть с лица или жеста случайные черты, связанные с данным актуальным моментом. Отсюда то завидное ощущение неизбывного и вечного, идущее от старых фотографий. Появилось что-то вроде символического чувства трансцендентной мудрости, когда все мгновенное движение исчезло с металлических фотопластинок. Позже, когда в результате развития техники мгновенной выдержки фотография обрела новые стилистические возможности, она стала ставить перед собой цели и задачи, доселе неизвестные истории визуальных искусств. Каковы бы ни были направления и цели искусства, его задачей всегда было отображение устойчивых признаков и особенностей вещей и действий. Даже когда художник на полотне передает движение, он передает именно постоянство его природы. Все это справедливо и по отношению к живописи девятнадцатого века, хотя обычно мы говорим, что импрессионисты в своем творчестве проявляли интерес к мгновенным движениям и ситуациям. Если взглянуть на их картины повнимательнее, то понимаешь, что современники первых поко-
Скорее можно утверждать, что импрессионисты к всегда занимавшему традиционных художников отражению фундаментальных свойств человеческой души и тела, таких, как мысль и печаль, забота и любовь, отдых и нападение, добавили внешние жесты повседневного поведения и открыли в них новые значения. Они заменили устойчивые положения тел на более случайные позы сутулости, потягивания и зевоты, сменили устойчивое равномерное освещение сцены на мерцающее. Если, однако, сравнить изображение всех этих купальщиц, девушек-мастериц или бульварных девиц, всех этих прокуренных сортировочных станций и беспорядочно движущихся по улицам толп народа с моментальными фотоснимками, то можно увидеть, что по большей части даже эти «моментальные» позы (см. рис. 11) крайне далеки от
Рис. 11. Э. Дега. Четыре танцовщицы. 1899. Национальная галерея искусств. Вашингтон
Рис. 12. Центр визуальных искусств при Гарвардском университете тех, что фиксируются в неполные доли секунды, извлеченной из контекста времени (рис. 12). Говоря на языке времени, танцовщица на картине Дега, застегивающая бретельку платья, также сдержанна и спокойна и так же отрешенно отдыхает, как и расстегивающая туфлю крылатая богиня победы в изображении на мраморном барельефе древних Афин. Мобильность фотокамеры позволяет фотографии бесцеремонно вторгаться в мир, нарушая в нем покой и равновесие подобно тому, как в физике света единственный фотон на атомном уровне приводит в беспорядок все те факты, о которых сообщается. Фотограф, как охотник, гордится тем, что ему удается поймать стихийность жизни, не оставляя в ней следов своего присутствия, репортеры приходят в восторг, когда им удается записать на кассете незамаскированную усталость и смущение в голосе или на лице общественного деятеля, а руководства по фотографии постоянно предупреждают любителей, чтобы те опасались застывших поз вытянувшихся в одну линию перед фотокамерой членов семьи на фоне какого-нибудь примечательного здания. Животные и дети, прототипы неконтролируемого поведения,— это любимые герои фотографии. Однако необходимая при этом осторожность и изобретательность бросают яркий свет на коренную проблему фотографии: фотограф неизбежно оказывается частью изображаемой им ситуации. Чтобы удержать его вне такой ситуации, поистине нужно вмешательство силы, и чем более умело фотограф прячется и чем неожиданнее нападает на свою «жертву», тем более острой будет казаться социальная проблема, которую он хочет передать на фотографии. Именно в этом плане следует думать о том неотразимом влечении и притягательности, какое испытывает к фотографии, кино и видеофильмам сегодняшняя молодежь. Я не буду пытаться объяснить здесь все аспекты такого влечения. Предубежденно настроенный к фотографии автор мог бы остановиться на соблазнительной возможности, которую предоставляет фотография тем, кто хочет создать мало-мальски приемлемые снимки без предварительной подготовки, не тратя на это особых усилий и не имея к тому никакого призвания. Более важно, однако, отметить, что выбирая фотокамеру, молодежь иногда демонстрирует этим свое пренебрежение к форме. Отчетливо выраженная форма является важной отличительной чертой традиционного искусства. Многие считают, что она обслуживает систему, психологически мешает грубой игре грез и страстей, принося с собой несправедливость, жестокость, политическое и социальное отчуждение. Очевидно, что такое обвинение, брошенное форме, несправедливо и является заблуждением. Отнюдь не выхолащивая визуальные сообщения, форма — единственное, что делает их доступными разуму. Достаточно лишь взглянуть на работу выдающегося мастера в области социальной фотографии, такого, как Доротея Ландж, чтобы по достоинству оценить убедительное красноречие формы. И наоборот, современная видеопродукция, такая, как записи интервью, дискуссий и других событий, не Уделяющая достаточно внимания изображению, свету и движению камеры, доказывает, что серые, неопределенные и ни к чему не обязывающие образы лишь подрывают коммуникацию. Без формы обойтись нельзя. Однако имеется еще один ис-
точник исходящего от фотографий очарования, и порожден он неоднозначным отношением фотографа к фиксируемым событиям. В других видах искусств эта проблема возникает лишь как побочный продукт. Следует ли поэту писать революционные гимны у себя дома или художник должен идти для этого на баррикады? В фотографии такого «географического» конфликта нет и быть не может: фотограф всегда должен быть там, где происходит действие. Разумеется, чтобы в какой-то мере ограничить наблюдение и съемку местом, где происходят сражения, разрушения или трагедии, требуется не меньше мужества, чем для самого проведения съемок в таких ситуациях, однако во время съемок жизнь и смерть трансформируются в зрелище, на которое смотришь отстраненно. Это как раз и есть то, что я хотел сказать раньше: отстранение художника от объекта становится гораздо большей проблемой для фотографии, чем для других искусств, именно по той причине, что фотограф вынужден занимать отстраненную позицию в ситуациях, где необходимо проявить человеческую солидарность. Верю, что созданные фотографии могут служить эффективным инструментом к вовлечению людей в активную деятельность, но в то же время фотография как занятие дает возможность человеку, находящемуся в гуще событий, делать свое дело, не принимая в этих событиях никакого участия. Фотография преодолевает телесную отчужденность, но она не должна отказываться от моментального отстранения. В сумерках таких неоднозначных ситуаций можно легко обмануться [6]. До сих пор речь шла о двух этапах в развитии фотографии: о раннем периоде, когда образ, так сказать, перешел границы кратковременного присутствия изображаемых объектов из-за большой длительности экспозиции и громоздкости фотоснаряжения, и о втором, более позднем периоде, во время которого широко эксплуатировалась возможность поймать движение в какие-то доли секунды. Как я уже отмечал, в задачу моментальной фотографии входило сохранить спонтанность и непроизвольность действия и одновременно избежать каких бы то ни было улик, указывающих на то, что фотограф оказывал определенное влияние на запечатлеваемый объект. Характерно, однако, что в наше время вновь возник интерес к фотографии, напрямую связанный с неестественностью производимых съемок и сознательным использованием ее для символической передачи образов и сюжетов эпохи, которая давно уже вышла из невинного возраста. В таком стилистическом направлении можно выделить два момента: появление сюрреалистических призраков и откровенный взгляд на фотографию как на обнажение. По самой своей природе сюрреалистическая живопись основывалась на зрительных иллюзиях, создаваемых реальным окружением. Теперь у живописи в лице фотографии появился очень сильный соперник, поскольку фотограф, хотя ему с помощью аппарата нелегко достичь ощущения реальности снимаемых объектов, достигает эффекта достоверности, недоступного живописи с момента ее рождения. Ныне модная фотография, видимо, начала свой путь с того, что погрузилась внутрь обстановки, будь то гостиничный комплекс с выходом на Ривьеру или Испанская лестница в Риме, и создала гротескно стилизованную модель человека с умышленно угловатой позой, тело которого было превращено в скелет, а лицо низведено до маски. Хотя в течение какого-то времени подобные призраки поражали публику, они выглядели слишком искусственными, чтобы вызвать подлинное ощущение чего-то сверхъестественного. Они более походили на умышленные проказы фотографа, нежели на существа из реального мира. В то же время только в качестве продуктов действительности призраки способны кого-либо очаровывать. Куда более сильный сюрреалистический трепет вызвала недавняя практика фотографирования обнаженных фигур в лесу, в жилой комнате или в покинутом всеми коттедже. Тут было несомненно подлинное человеческое тело, однако пока обнаженные фигуры представили лишь как плод воображения художников, реальность эпизода воспринималась как сон — возможно, приятный, но вместе с тем пугающий, поскольку, как галлюцинация, он поражал разум. Еще один относительно недавно проанализированный путь использования свойства искусственности фотографии как художественного средства мы находим, обращаясь к репортажу. Особенно впечатляюще выглядят здесь странные фотодокументы, созданные Дианой Арбус. Ее камера не выхватывает тех, кто, не видя фотографа и не зная, что тот находится рядом, ведет себя раскованно. Напротив, люди на фотографиях Арбус, видимо, осознают присутствие фотографа и ведут себя нарочито приветливо или церемонно, наблюдая за ним с подозрительным вниманием. Возникает чувство, будто нам показывают мужчину и женщину, вкусивших плод с древа познания. «И открылись глаза у них, обоих,— говорит Книга Бытия,— и узнали они, что наги». Здесь человек находится под наблюдением и нуждается в другом лице, связанном с его образом, который только потому, что на него смотрят, подвергается опасности или рассчитывает на большое вознаграждение. Все эти приложения фотографии в конечном счете стали возможны благодаря ее основной особенности: физические объекты сами создают свои образы с помощью оптического и химического действия света. Этот факт был известен и прежде, но интерпретировался по-разному разными авторами. Я размышлял над ним в связи с занятиями психологией и эстетикой кино, о чем писал в книге, опубликованной впервые в 1932 году [1]. В этой давно написанной работе я попытался опровергнуть брошенные фотографии обвинения в том, что она лишь механически копирует природу и больше ни на что не способна. Мой подход к фотографии явился реакцией на такое узкое ее понимание, получившее широкое распространение, по-видимому, с Бодлера, который в своем известном высказывании 1859 года дал оценку фотографии как подлинной документации различных взглядов и научных фактов. Между тем Бодлер также заявил, что это акт жаждущего отмщения Бога, который послал на землю Даггера как своего мессию, удовлетворив просьбу вульгарной толпы, жаждущей искусства как точного воспроизведения натуры. Во времена Бодлера механическое фотографирование было вдвойне подозрительным, поскольку представляло собой попытку промышленности заменить ручную работу художника массовым производством дешевых картинок. Критические голоса, хотя и менее красноречивые, были все же достаточно влиятельными, когда я присоединился к их хору, выступив в роли апологета кино. Моей стратегической задачей тогда было описать различия между теми образами, которые возникают, когда мы смотрим на физический мир, и теми образами, которые воспринимаются с экрана во время фильма. Именно эти различия определяют эстетическое воспроизведение мира. В каком-то смысле такой подход был негативным, так как защищал новое искусство, опираясь на старые, традиционные критерии. Так, несмотря на механическую природу фотографии, художнику указывалась область интерпретации, очень похожая на ту, что предлагалась живописцам и скульпторам. И лишь в качестве побочного продукта я интересовался в то время достоинствами фотографии, которые та унаследовала как раз от механистических особенностей своих образов. Но даже при всем при этом мое выступление было тогда необходимым и, возможно, стоит о нем здесь вспомнить, по крайней мере, если судить по одному из наиболее известных и вместе с тем одному из самых запутывающих, сбивающих с толку высказываний последних лет, которое содержится в работе Рональда Барфеса [2]. Барфес называет фотографию совершенной и абсолютно точной аналогией физического объекта, полученной не путем его трансформации, а путем редукции. Если это утверждение вообще имеет хоть какой-то смысл, оно, видимо, означает, следующее: фотографическое изображение представляет собой не что иное, как точную копию объекта, и всякое его усовершенствование или интерпретация вторичны. Я же считаю, что следует настаивать на том, что образ не может передавать сообщение, если не приобретет форму на самом раннем этапе. Очевидно, что мы смотрим на фотосюжеты не как на придуманные человеком картины, а как на копии предметов или действий, которые существовали и имели место где-то в пространстве и во времени. Убежденность, что картины порождены фотокамерой, а не выписаны рукой человека, оказывает сильное воздействие на то, как мы их рассматриваем и как ими пользуемся. Этот момент особо подчеркивал французский кинокритик Андрэ Базен [4]. Как он писал в 1945 году, фотография обладает тем преимуществом, что «впервые на пути от объекта-оригинала к его репродукции встал неживой инструмент... Фотография действует на нас, как явление природы, как цветок или снежинка, чей плод или земное происхождение — неотделимая часть ее красоты» [4, с. 13]. Рассматривая в музее картину с изображением сцены в фламандской таверне, мы обращаем внимание на то, какие объекты художник ввел и чем занимаются персонажи его картины. И только косвенно мы используем эту картину как документальное свидетельство, говорящее, какая жизнь была в семнадцатом веке. Абсолютно иное отношение у нас к фотографии, ну, скажем, буфетной стойки. Где это было снято? — хотим мы знать. Слово «caliente», которое мы находим в меню на заднем плане фотографии, указывает на Испанию, однако пузатый полицейский у дверей, булочки с горячими сосисками и апельсиновый сок убеждают нас, что все это происходит в США. С радостным любопытством туристы изучают место действия на фотографии. Перчатку возле корзины для бумаг обронил, должно быть, клиент; во всяком случае, это не композиционный прием фотографа. На фотографиях нет места хитроумным штучкам. Характерно также совершенно иное отношение ко времени. Вопрос «когда это было нарисовано?» означает прежде всего, что спрашивающий хочет узнать, на какой ступени творческого развития находился художник в то время, когда рисовал данную картину. Вопрос «когда это было снято?» обычно указывает, что нас интересует, в каком месте находился субъект в тот период и какое это было время, т. е. историческое место события. Иными словами, это фото Чикаго перед большим пожаром или так выглядел город после 1871 года? Рассматривая фотографию как документальное свидетельство эпохи, мы обычно задаем три вопроса: Это подлинник? Это точная копия? Это истинный снимок? Аутентичность, подтвержденная рядом признаков и практическим использованием изображения, означает, что последнее не испорчено и не искажено. Грабитель в маске, выходящий из дверей банка,—это не актер; об- лака не отпечатаны с другого негатива; лев не позирует перед нарисованным оазисом. Другое дело точность изображения: она предполагает уверенность, что изображение полностью соответствует снятому фотоаппаратом эпизоду. Наконец, истинность не связана с изображением как высказыванием о том, какие события происходили перед аппаратом, эпизод на снимке рассматривается как высказывание о фактах, которые, по предположению, делает фотография. Мы спрашиваем, насколько достоверно изображение передает снимаемый фрагмент действительности. Фотография может быть подлинной, но не истинной, истинной, но не аутентичной. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
 лений фотографов не пытались остановить движение, но они также не пытались заменить изображение ситуаций, для которых характерны какие-то постоянные моменты, на изображения быстро проходящих, сиюминутных эпизодов.
лений фотографов не пытались остановить движение, но они также не пытались заменить изображение ситуаций, для которых характерны какие-то постоянные моменты, на изображения быстро проходящих, сиюминутных эпизодов.