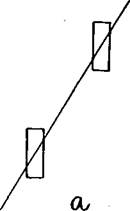|
|
Что вызывает дивергенцию форм? 7 главаЕдинство проявляется в основных структурных свойствах, разделяемых разными чувственными модальностями. Единство чувств и, соответственно, единство искусств было провозглашено в 20-х годах нашего века музыковедом Эрих-Мария фон Хорнбостелом в небольшой, но насыщенной важными идеями работе, где он, в частности, писал: «В эстетике существенно не то, что разделяет чувства, а то, что их объединяет: одно с другим, их вместе со всем (даже не обязательно эстетическим) опытом в нас самих и со всем внешним миром в целом, который должен быть воспринят и познан» [6]. Сопоставление разных видов искусств основывается на определенных количественных оценках, общих для всех способов чувственного восприятия и, шире, для всех видов эстетического опыта. Различаются художественные средства тем, как отбираются и как используются в них соответствующие оценки. Использование количественных характеристик, в свою очередь, определяется взглядами, мнениями и позициями людей, их поведением. Было бы весьма соблазнительно остановиться на аналогиях между основными характеристиками художественного средства и психологическим типом тяготеющего к нему человека, поскольку они отражают его потребности и устремления. Такой анализ был бы, однако, недостаточен для объяснения того, почему данный чело- век стал поэтом, а не художником, или почему кто-то предпочитает слушать музыку вместо того, чтобы осматривать архитектурные памятники. Сделанный человеком или даже человеческим типом выбор зависит также от мощных дополнительных мотивов и стимулов — культурных, социальных и психологических. Тем не менее близость психологических типов восприятия тем предпочтениям, которые люди оказывают определенным способам решения практических задач, несомненно, имеет важное значение и весьма поучительна. Обратимся к расхождениям между восприятием нашего мира в терминах времени и в терминах пространства. Так, Фридрих Ницше в своей «Воле к власти» утверждает, что «постоянные перемещения не позволяют говорить об индивиде и т. д., само «количество» индивидов является переменным. Мы бы ничего не знали о времени и о движении, если бы бездумно не верили, что видим вещи «в покое» рядом с теми вещами, которые движутся» [9, разд. 520]. Если исходить из понятия времени, Бытие — это переплетение событий, интерпретируемых в сфере искусств временными средствами драмы и художественной прозы, танца, музыки и кино. Хотя большинству из этих видов искусств люди и предметы необходимы только для организации места действия, создания фона и определения состава действующих лиц, наиболее удачным, как показал еще Г. Лессинг в своем «Лаокооне», будет непосредственное введение их в ткань художественного повествования через участие в действии, если они при этом будут описываться в пределах цепочки разворачивающихся во времени событий. Так, все компоненты музыкального произведения в своей основе— это чистые действия. Требуется обращение к дополнительному зрительному каналу, чтобы видеть музыкантов и певцов, осуществляющих свою деятельность во времени. Музыкальная тема является не предметом, а событием, что полностью отвечает нашему опыту людей, слушающих музыкальные произведения, когда мы сообщаем другим лишь только то, что делают объекты, умалчивая об остальном. Птицы, часы, люди воспринимаются нами на слух как существующие только тогда, когда они поют, тикают, плачут или кашляют; они характеризуются исключительно своими адвербиальными свойствами и существуют лишь до тех пор, пока эти свойства сохраняются. В своей работе о радиовещании как искусстве под названием «Похвала слепоте» я отмечал великодушную экономию музыкального действия, воспринимаемого исключительно на слух, при котором музыкальные инструменты, певцы или актеры регистрируются как участвующие в действии и существующие лишь в тот момент, когда мы слышим исполняемые ими партии [1]. Только плохой ор- кестр сидит без дела, только по-настоящему близкая подруга будет продолжать слушать, когда наступила ее очередь говорить, лишь никуда не годная мебель стоит пустая и только плохой ландшафт никак не удается использовать. В мире чистых звуков причинные связи ограничены звуковой последовательностью: один звук следует за другим в линейном временном измерении. В музыкальном сочинении, романе или танце аудитория принимает участие в анализе или разворачивании ситуации, в создании или уничтожении структуры, в решении проблемы. По существу, все это чистые действия. В динамических искусствах слушатель или зритель сам может определять средства действия и поддерживать разворачивающиеся события. Пространственное оформление при этом либо полностью отсутствует, как в радиоспектакле или радиоконцерте, либо лежит поперек течения событий, как в добротно сделанном фильме. В хорошем фильме ницшеанское видение становится реальностью: все предметы поглощаются временем, они то появляются, то исчезают, образы их меняются во времени в соответствии с теми ролями, которые они играют. Здесь предметы скорее служат актерами, нежели реквизиторами. Существование в пространстве переосмысливается как сопротивление переменному потоку; вспомним хотя бы застывшие фотографии в череде сменяющихся кадров. Чем полнее происходит трансформация предметов в действие, тем больше фильм начинает походить на зрительно воспринимаемую музыку. Только в неумелых руках склонного к излишней театрализации кинорежиссера— создателя звукового фильма изображение на экране выглядит тяжеловесным, перегруженным статическими деталями, мешающими развитию визуального действия. Однако зритель может не только участвовать в действии, типичном для динамического искусства, он часто бывает вовлечен в контекст, полностью лишенный параметра времени. Так происходит, например, в театре во время сценического действия, которое в отношении ко времени неоднозначно. Театральный зритель может двигаться во времени вместе с действием, и тогда сцена для него служит лишь рамкой, внутри которой разворачиваются события спектакля, но тот же зритель может чувствовать себя прикрепленным к пространственному контексту, по отношению к которому сцена является собственной частью, и наблюдать за ходом действия, как за экспрессом, проносящимся перед глазами, оставаясь при этом неподвижным. Когда зритель погружен в пространственные рамки, он в пьесе способен понять ровно столько, сколько может понять в ней в данный момент ее развертывания. Актуальное действие приходит из будущего и исчезает в прошлом, лишь на короткий миг обнаруживая себя, свое существование в настоящем, причем оно слабо связано как с событиями, ему предшествовавшими, так и с событиями, за ним следующими. В музыке аналогичная роль отводится слушателю, который находится в пространственном, но не во временном окружении и который воспринимает одну только звуковую картину, претерпевающую во время исполнения калейдоскопические изменения. Этот пример с незадачливым любителем музыки может служить иллюстрацией более общей проблемы, относящейся ко всякому наблюдению за ходом каких-то событий. Исполнение музыкального сочинения имеет временные границы; оно имеет начало и конец, но в каждый момент времени непосредственно воспринимается только отдельный отрезок произведения. Строго говоря, настоящее равносильно бесконечно малому промежутку времени. Между тем в психологической деятельности память, так сказать, расширяет границы восприятия, позволяя выйти за его пределы. Первым на это обратил внимание Кристиан фон Эренфелс в эссе 1890 года, где он впервые ввел понятие гештальт-психологии [4]. К. фон Эренфелс отметил, что, наблюдая за движением идущего человека, мы воспринимаем шаг как единое целое, но разум легче фиксирует существование звуковой последовательности, чем последовательности видимых знаков. Мелодия, состоящая из нескольких тактов, воспринимается как целостность. Такого рода перцептуальное расхождение между разными художественными средствами, по мнению фон Эренфелса, оказывает влияние на память. «Когда танцор в сопровождении мелодии совершает ряд движений, которые... обладают четкостью и сложностью, сопоставимыми с такими же свойствами мелодии, многие сумеют воспроизвести эту мелодию, даже всего лишь услышав ее, но едва ли кто способен повторить движения танцора». Может быть Эренфелс прав, а может быть и нет, но в любом случае длительность актуального момента зависит от структуры воспринимаемой ситуации. Удар молнии длится очень короткий промежуток времени, а рокот грома продолжается дольше. Однако гром и молния могут быть объединены в одно целое во временных пределах распространенного настоящего на следующем, более высоком уровне анализа. Точно так же опыт, полученный в настоящем, может быть распространен на более крупные единицы иерархической структуры, в той или иной степени зависящей от способности человека к пониманию. Например, зритель, у которого такая способность выражена очень слабо, вряд ли воспримет больше, чем один такт движения, более способный сможет оценить целиком фразу, тогда как искушенный эксперт поймет всю композицию сразу. Ведь недаром же Музы были дочерями Памяти! Необходимая трансформация временной последовательности в точку, в одновременность порождает целый ряд особых проблем, поскольку в действительности только зрение в состоянии совершить такую трансформацию. Строго говоря, в музыке одновременность не может выйти за пределы тонов одного аккорда. Сжатие всякой звуковой последовательности в точку приводит лишь к беспорядочному шуму. Отсюда вытекает, что каждый, кто хочет целиком изучить музыкальное произведение, должен представить себе его структуру как зрительный образ — разумеется, образ, созданный, так сказать, односторонней стрелой времени. Однако мысль о необходимости каждый раз делать такой перевод выглядит не очень естественной. В литературе — искусстве, также являющемся динамическим секвенциальным средством,— аналогичное требование приводит к неизбежности выяснения того, какая часть расширенного вербального описания остается активной в голове читателя или слушателя. В романе Новалиса [10] путешественники входят в пещеру, усыпанную костями доисторических животных. Там они. встречают отшельника, превратившего пещеру в свое жилище, и рассказ отшельника вскоре полностью захватывает внимание читателя. Остатки варварского прошлого, рассыпанные по всей пещере, образуют необходимый контрапункт тем ценным книгам, наскальным рисункам и песням, которые окружают отшельника в пещере; последние, однако, легко ускользают из памяти читателя, фиксирующего все свое внимание на рассказе, выступающем на передний план. Если читатель не вполне понимает смысл повествования, он может захотеть повторения каких-то компонентов схемы рассказа, чтобы удержать в голове полный образ. Строго говоря, нельзя понять ни одного элемента произведения искусства, если параллельно не рассматривать остальных его элементов. Впрочем, из-за того, что сложность многих произведений искусства превышает возможности человеческого мозга, в частности, объем его памяти, их можно понять лишь приблизительно, и касается это не только зрителей или слушателей, но, как я подозреваю, и самих авторов. В основном живой организм обрабатывает поступающую информацию последовательно. Даже в сетчатке глаза высших животных, поворачивающегося к миру двумерной антенкой-тарелкой, развивается слепое пятно, центр наилучшего видения, которое пристально вглядывается в мир, высвечивая в нем, подобно узкому лучу, отдельные детали. Хотя картину предпочтительно смотреть, стоя от нее на некотором расстоянии, чтобы она вся попадала в поле зрения наблюдателя, направленное видение в каждый данный момент времени ограничено крошечным участком, так что понять картину можно, лишь подробно ее разбирая и изучая. Таким образом, последовательное восприятие характеризует все художественные средства, как пространственные, так и временные. Однако в темпоральных искусствах, таких, как музыка, литература, кино и др., в отличие от пространственных, эта последовательность внутренне присуща образам и потому ограничивает их восприятие потребителем. В пространственных, не изменяющихся во времени искусствах — живописи, скульптуре или архитектуре,— последовательным является только сам процесс восприятия предмета искусства, а также его осмысление, процесс субъективный, допускающий известный произвол и происходящий вне пределов структуры и содержания произведения. Согласно Лессингу, действие в живописи отражается в непосредственном взаимодействии объектов. Таким образом, когда мы от временного искусства переходим к пространственному, мы не просто меняем мир глаголов на мир существительных, то есть живые действия на неповоротливые, инертные предметы. Представление действия через нарисованные или вылепленные формы было бы абсолютно неэффективным, если бы единственное, на что мы могли полагаться, было бы знание зрителем того, что в соответствующей реальной ситуации всадник решительно пустился вскачь, а ангелы полетели. В этом случае абстрактная живопись и скульптура, не опирающиеся на прошлый опыт, не смогли бы передать динамику какого-либо действия. Очевидно, что лишь благодаря визуальной динамике, внутреннему напряжению, свойственному всем объектам, оказывается возможным отобразить действие в пространственных искусствах. Эта динамика поддерживается также каузальными связями между компонентами образа. В пространственном многообразии каузальные отношения свойственны не только линейной последовательности, но распространяются одновременно в разных направлениях, задаваемых двух- или трехмерным художественным средством. Взаимопритяжения и взаимоотталкивания, которые возникают, например, между различными элементами картины, создают то взаимодействие, которое должно быть воспринято зрителем хотя бы обзорно. Только когда пытливый глаз собрал все элементы изображения и связал их воедино, возникает адекватное представление о динамике действия. Динамика действия встроена в образ и не зависит от его субъективного анализа. Так, даже если вы рассматриваете картину справа налево, то обнаружите, что основной вектор, вдоль которого разворачивается композиция, идет слева направо. Симметрия, равновесность, устойчивость и другие пространственные характеристики, сами по себе нелинейные, воспринимаются лишь при линейно развертывающемся во времени наблюдении. Понять картину, скульптуру или памятник архитектуры можно только при условии синоптического восприятия всех многообразных переплетений связей между элементами произведения. Как я уже отмечал выше, то же верно и в отношении темпоральных искусств. Разумеется, с физической точки зрения и музыкальное исполнение и словесное описание линейно упорядочены, но при этом они просто образуют канал коммуникации. В то же время их эстетическая структура — музыкальная форма, поэтический образ — объект значительно более сложный, нежели линейная последовательность. Слушая музыку, мы по-своему перестраиваем внутренние связи произведения и даже создаем новые художественные фразы, как бы подбирая подходящие пары (например, при переходе от трио к менуэту), хотя при исполнении музыка разворачивается линейно. Широкое использование повторов в темпоральных искусствах служит для образования связей между следующими друг за другом во времени частями и тем самым компенсирует однонаправленность исполнения. Такое соответствие здесь, очевидно, далеко от идеальной симметрии двух каменных львов, расположенных по обе стороны ведущей в дом лестницы. Различие в местоположении внутри самой последовательности ощущается, к примеру, тогда, когда музыкальная тема возобновляется на ином по высоте уровне или преобразуется под действием усиления, инверсии и тому подобных изменений. Даже рефрен в стихотворениях из-за различий в строфах, где встречается соответствующая группа фраз, оказывает воздействие и на общую тональность стихотворения и на его смысл. Повтор в музыке, по всей видимости, может иметь два противоположных действия. Он осознается либо как повтор уже ранее появившейся фразы, либо как возврат к ней. В первом случае последовательность музыкальных звуков не разрывается, а в ходе развертывания включает в себя звуковой аналог ранее услышанного и оставшегося в прошлом фрагмента. Во втором случае слушатель прерывает течение последовательности и возвращается по ней назад к фразе, занимающей «надлежащее» место. Я полагаю, что это происходит каждый раз, когда дублируемая фраза, в отличие от истинного повтора, на своем новом месте не отвечает строю произведения (см. рис. 7а) и поэтому возвращается к тому единственному месту в последовательности, где она уже полностью соответствует структуре (см. рис. 76). Последнее равносильно перестановке в пределах музыкальной динамической последовательности [7]. Различие между временными и пространственными искусствами теряет смысл, если понять, что секвенциальная передача информации приводит всякий раз к нелинейной структуре. Теория информации, основанная на концепции линейного канала передачи информации, не в состоянии объяснить наличие сложной структуры, так как в этой теории обсуждаются проблемы пере- дачи информации, а не проблемы, связанные с многомерным образом, возникающим благодаря такой передаче. Реляционную сеть изображения нельзя объяснить линейным сканированием потока лучей или развертыванием ткацкого навоя, которые технически способны создать изображение — например, на телеэкране или на полотне,— но никогда не описывают его структуры. Образ, возникающий в голове читателя литературного произведения, в своей многомерности соперничает с пространственной сложностью актуального восприятия. Но даже здесь последовательность, развертывание которой во времени дает возможность обнаружить те или иные аспекты предполагаемой структуры, оказывает очевидное влияние на осмысление произведения. Когда Эмили Дикинсон пишет в стихотворении, состоящем из одного предложения: «Повсюду из серебра, С канатами из песка Береги его от уничтожения Этот след по имени Земля»,— она как бы размещает его на острове концентрически и извне, причем эта динамика не предписывается образом, а навязана разворачивающейся во времени последовательностью и, разумеется, порядком слов [3, с. 88].
б Рис. 7 Напротив, в начале другой своей поэмы [3, с. 108] Эмили Дикинсон вынуждает нас двигаться из центра наружу: «Села года на равнину В своем вечном стуке, Наблюдение ее всеобъемлющее, Дознание ее повсеместное». Или, если воспользоваться еще одним примером, лингвист, пытающийся убедить нас, что у предложений «Мальчик бежит за кошкой» и «Кошка бежит от мальчика» одинаковое смысловое содержание, обнаруживает лишь свою профессиональную некомпетентность. Пространственные параметры, характерные для разных видов искусств, могут быть также рассмотрены в их отношении к расстоянию— термин, имеющий несколько значений. Во-первых, существует физическое расстояние между человеком и объектом искусства. Оно интересует нас здесь по той причине, что от него зависит возможность непосредственной манипуляции с этим объектом. Кроме того, физическое расстояние воздействует на зрительное, которое показывает, сколь далеко от человека узнается и переживается объект. Между физическим и зрительным расстоянием, однако, нет простого соответствия; объект искусства может казаться и ближе и дальше, чем на самом деле. Наконец, в дополнение к физическому и зрительному расстояниям есть еще одно расстояние, которое я называю личным и которое определяет степень взаимодействия или близости между человеком и объектом искусства. Действие физического расстояния особенно стало ощутимым сравнительно недавно, когда сценические искусства попытались сломать существующие последние несколько веков барьеры между исполнителями, актерами и танцорами, с одной стороны, и зрителями, заполняющими залы театров и филармоний,— с другой. Несомненно, что даже выполненные в традиционном стиле постановки спектаклей определенным образом соответствовали пространственной структуре зрительного зала, точно так же, как для многих картин была нужна фиксированная точка обзора где-то в физическом пространстве наблюдения. Но даже при этом сцена была отдельным миром, а драма, происходящая на ней, выступала как самостоятельное, изолированное событие. Солист оперы или балета, выступая на сцене вперед, ближе к зрителю, признавал присутствие зрителей лишь в том смысле, что исполнял свою партию перед ними и для них, однако он никогда не обращался к аудитории (редкое исключение составляют, например, прологи и эпилоги шекспировских пьес) и никогда не требовал от нее активной реакции на свое исполнение. Попытка обойтись без какой-либо дистанции между сценой и залом показала, что простой перестройки пространственной ор- ганизации, однако, для этого недостаточно, так как и пьесы и техника игры мало были приспособлены к непосредственному контакту актеров со зрителем. Актеры, бегающие по проходам или перед зрителями, сидящими в первом ряду партера, перемешивались с чеховскими тремя сестрами в «театре по кругу» и кроме пространственного беспорядка мало что производили. Стало ясно, что пространственная интеграция потребует не меньше усилий, чем возвращение к разным социальным ролям у исполнителей и зрителей, т. е. к совместным встречам, где актеры бы вместе со зрителями участвовали в общих ритуальных действиях. Я убежден, что такие радикальные перемены не могут быть ограничены одними событиями из мира искусств, они должны затрагивать все общество в целом. На меньшей шкале физическое расстояние определяет основное различие между большой статуей, рассматриваемой издали, и, например, нэцке — маленькими, сделанными из дерева или слоновой кости фигурками, которые «в течение каких-то 300 лет каждая хорошо одетая японка носила за поясом кимоно вместе с кошельком, сумочкой или лакированной коробочкой» [2]. Эти миниатюрные скульптуры не просто разрешалось ласково поглаживать, но предполагалось, что их владельцы делают это; при этом поглаживание рассматривалось как важный способ получения от миниатюры чувственного удовольствия. В то же время применительно к большим формам подобное занятие не допускалось, во всяком случае, к нему относились с явным неодобрением. Так, Гегель в своей «Эстетике» указывал, что «эстетическое наслаждение, испытываемое от произведения искусства, связано лишь с двумя теоретически выделяемыми чувствами — зрением и слухом, тогда как запах, вкус и осязание остаются вне связи с эстетическим наслаждением». Он замечает, что «созерцая скульптуру богини и получая от этого удовольствие, нет необходимости касаться руками нежных мраморных частей ее женского тела, как рекомендует вам делать ваш приятель-эстет» [5]. Помимо чисто пуританских аспектов, заключенных в таком табу, требование, чтобы наблюдатель находился от объекта искусства на определенном расстоянии, находит отражение в классическом представлении, согласно которому эстетическая позиция наблюдателя в целях сохранения чистоты должна быть беспристрастной и непредубежденной, свободной от собственнических побуждений «воли». Зрительному ощущению, в смысле дистанции, преимущественно отдается предпочтение перед телесным контактом при осязании. И здесь снова происшедшая недавно смена эстетических оценок изменяет, видимо, требование отделенности субъекта от объекта — не только потому, что нынче высоко оценивается пол- нота перцептуального опыта, когда, как пишут модные сегодня феноменологи вроде Мерло-Понти, тело встречает тело, но и потому, что сейчас особо подчеркивается важность естественного функционального взаимодействия между зрителем и объектом искусства. Эстетическая сторона в различии визуального и тактильного восприятий заключается не в психологически ошибочном представлении, будто зрение дает нам только образ объекта, тогда как осязание дает нам «сам объект» (все воспринимаемые объекты суть образы). Скорее существенной является меняющаяся степень воспринимаемого взаимодействия между лицом и объектом и, соответственно, мера «реального присутствия». Для лица, тяготеющего к скульптуре, лишь жесткое сопротивление •физического материала передает ощущение, что сам объект и его внешние свойства формы и строения «действительно присутствуют». Благодаря своему физическому измерению, скульптура находится в одном ряду с мебелью и прочей утварью, предназначаемой для практического использования. Однако именно так — как к предметам, служащим, главным образом, для различного рода практических целей,— и относятся к ним, именно так и смотрят на них. Лишь как исключение эти предметы рассматривают в качестве объектов искусства, достойных созерцания. Возможно, поэтому огромное число посетителей музеев не обращает на скульптуры никакого внимания, в лучшем случае удостаивая их беглого взгляда, в то время как висящие на стенах картины внимательно и сосредоточенно изучаются. Стул или зонт не созерцают— ими либо пользуются, либо вообще не интересуются. В то же самое время физическое существование скульптуры как объекта, обладающего весом и трехмерным объемом, делают ее перцептуально «более реальной», чем картины. Магические силы статуи религиозного характера обычно оказывают большее воздействие, чем изображения святых на алтаре; ее чаще боготворят, ей делают жертвенные подношения. Не без оснований иконоборцы были более терпимы к религиозным картинам, которые скорее походили на иллюстрации к религиозным сюжетам, предназначенным для изучения, чем к высеченным идолам, чье физическое присутствие вызывало непосредственное желание им поклоняться. Различие между присутствием эстетического объекта в физическом пространстве и его простым визуальным появлением удивительным образом обнаруживается при сопоставлении покрытого краской полотна и визуального изображения на нем. Первое является физическим объектом, которого касается своим авторитетным перстом хранитель музея, второго же можно достичь, лишь указывая на него. Пигментированное полотно как физический объект можно наблюдать, находясь в пределах его досягаемости, тогда как изображение отдаленного ландшафта на картине заставляет взгляд проникать на неопределенную глубину в пространство картины. Это различие было ликвидировано только совсем недавно, когда художники перестали ставить перед собой цель создания некоего иллюзорного изобразительного пространства, а вместо этого стали покрывать рисунком доски, что уже в принципе мало чем отличалось от создания скульптуры. Еще менее осязаемы, чем нарисованные вдали объекты, ментальные образы, порожденные литературным повествованием и поэзией. Нарисованная живописцем аллея связана со зрителем по меньшей мере общим физическим пространством, но нет такой пространственной целостности, которая бы связывала читателя с психическими образами, возникающими в его мозгу. Они появляются в феноменологическом мире своего собственного, самостоятельного, но не определяемого расстояния. Отсутствие перцептуального мостика между читателем и произведением можно, тем не менее, компенсировать сильным резонансом, соединяющим читателя с описываемой сценой. В этом смысле «личное расстояние», как назвал я его раньше, может быть сведено до минимума. Также сильное влияние на восприятие оказывает мера личного участия или вовлеченности в событие. Отметим, например, здесь, что истинный эстетический опыт не ограничивается пассивным восприятием возникающего вдали объекта искусства, но предполагает активное взаимодействие между художественным произведением и реакцией зрителя, слушателя или читателя. Анализ изобразительной или музыкальной композиции переживается как активное формирование воспринимаемого объекта, а объект, в свою очередь, навязывает свои формы исследователю как ограничения на его свободу: «Это я тебе позволяю делать, а это — нет!» По ходу дела можно дополнить сказанное двумя наблюдениями. Во-первых, непосредственное обращение к материалу, такому, как глина или пигмент, подкрепляет ощущение, что подходит, а что нет данному средству. Воображением далеко не просто обеспечить объективный контроль. Так, архитектор, которого мы можем (недоброжелательно и несправедливо) описать как атрофировавшегося строителя, может найти, что его формы хороши лишь на бумаге, но когда дело доходит до материалов, отобранных для данной конструкции, они уже никуда не годятся. Подобно киносценаристу, этот архитектор есть не кто иной, как безрукий Рафаэль. Во-вторых, необходимое отделение художника от его продукта далеко не всегда предполагает наличие физической дистанции между ними. Оба могут размещаться в одном организме даже яри том, что не соответствуют друг другу каким-либо естественным образом, как соответствует, например, танец телу танцовщицы. Поразительный пример такого соединения дает onna-gata, актер-мужчина, исполняющий женскую роль в театре Кабуки. Зрелый мужчина передает на сцене движения и голос изящной девушки, не превращаясь при этом в женоподобное существо, не перенимая просто поведения девушки и не копируя его, а приспосабливая к себе стилизованный образ ее внешних признаков с помощью инструмента, каковым является его собственное тело, причем последнее остается узнаваемым, даже будучи скрытым под маской и костюмом. Это экстремальный случай внушающего благоговейный страх перевоплощения и способности с помощью своего собственного ума и тела воспроизводить живых людей, абсолютно отличных от самого себя. Вспомним старых мастеров— Майоля, Ренуара или Матисса,— создающих в глине или краске образ молодой женщины, вдохновляемый и насыщенный его характером, но тем не менее отвечающий ее природе. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|