
|
|
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОАОГИЯ 15 главаанализ, являются самым существенным моментом в нашем Мышлении и даже в волевом акте. Для того чтобы совершилось какое-нибудь движение, необходимо предварительное наличие в сознании образа или воспоминания о тех раздражителях, которые бьгли с этими движениями связаны. Общее мнение психологов схо-пйтСЯ в том, что всякое произвольное движение первоначально полжно случиться как бы непроизвольно, для того чтобы вызвать соответствующую кинестетическуюреакцию, т. е. соответственное внутреннее раздражение. И только после путем возобновления этой реакции возможно повторение движения в виде произвольного акта. Я том невыразимом и сложном составе, которым определяется наше мышление или представление о каких-либо предметах, решающую роль играют именно кинестетическиепереживания, недостаточно точно локализованные, кажущиеся нам какими-то внутренними ни на что не похожими состояниями, потому что и в самом деле они имеют совершенно другие нервную природу и материал восприятия. Наличие кинестетическихмоментов во всяком сознательном движении подтверждено опытами Бэра, который выучивал своих испытуемых двигать ушами и совершать другие (обычно непроизвольные) движения путем механического приведения в движение органа, вслед за которым вызывалась кинестетическая реакция, позволявшая затем, уже по собственному почину и желанию, совершать это действие. Наконец, третья группа этих же самых явлений относится к области мышления и представления о таких предметах, вещах иотношениях, которые с первого взгляда трудно вообразить реализованными в движении. Другими словами, затруднение заключается в том, чтобы установить двигательную природу таких мыслей, которые направлены не на движение, а, к примеру, на высокую четырехугольную башню, на синий цвет, на огромную тяжесть. Однако без труда можно убедиться, что и в этих случаях мы имеем дело с рядом зачаточных и трудно обнаруживаемых, но несомненно существующих движений. При этом большей частью мы имеем дело с движениями воспринимающих органов, которыми в свое время сопровождалось восприятие того или иного предмета. Так, думая о чем-либо громком или тихом, мы в зачаточном состоянии осуществляем те же движения, которые нужны для приспособления уха и головы к восприятию подобных звуков в опыте. Думая о круглом, большом или маленьком, мы реализуем в движениях глазной мускулатуры те самые приспособительные движения, фиксацию тех предметов, Которые когда-то были нами восприняты в действительности. Даже самые отвлеченные и трудно переводимые на язык движения мысли отношения, как какие-нибудь математические формулы, философемы или отвлеченные логические законы, даже они оказываются связанными в конечном счете с теми или иными остатками бывших движений, воспроизводимых теперь вновь. Если вообразить себе абсолютный паралич всей мускулатуры, то естественным
Особо следует выделить одну группу внутренних движений, в которых реализуются мысли и которые имеют самое существенное значение в поведении человека. Это группа так называемых рече-двигательных реакций, т. е. подавленных, необнаруженных движений речедвигательного аппарата, состоящих из сложных элементов дыхательных, мускульных и звуковых реакций, которые образуют в своей совокупности основу всякого мышления культурного человека, очень правильно называемую системой внутренней речи или немой речи. Любопытно, что нецивилизованный человек и человек на первых степенях цивилизации отожествляют мышление и речь в совершенном согласии с научными данными, определяя мышление как «разговор в животе» или по-библейски «разговор в сердце». Что мысль есть разговор, но только утаенный в каком-то внутреннем органе, не доведенный до конца, не обращенный ни к кому другому, но только к самому себе, — под этим определением одинаково подписываются и дикарь, и современный ученый. Именно это имел в виду Сеченов, когда определял мысль как первые две трети психического рефлекса или как рефлекс, оборванный на двух третях. При этом он имел в виду рефлекс, не доведенный до конца, заторможенный в своей внешней части. Что это действительно так, показывает самое простое и повседневное наблюдение. Старайтесь усиленно припомнить какой-либо мотив, и вы увидите, что вы напеваете его про себя. Старайтесь усиленно припомнить слои какого-либо стихотворения, и вы заметите, что молча их произносите про себя. Такое удержание речи во внутреннем органе, недоведение ее до конца, получило особенно широкий и важный смысл в человеческом общежитии благодаря необычайной сложности взаимоотношений, которые возникают даже на самых первых ступенях культуры. Первоначально любой рефлекс осуществляется во всей своей полноте, во всех своих частях. Мы имеем полную схему движения — ребенок научается раньше говорить, а потом мыслить. Чрезвычайно важно для педагога знать, что на самом деле происходит не так, как это обычно представляли, т. е. будто сперва ребенок начинает мыслить, а потом научается словам для выражения своих мыслей. Первое мышление ребенка связывается с его первыми нечленораздельными еще звуками. Его мышление имеет вторичное происхождение. Оно возникает только тогда, когда ребенок, подавляя звуки, научается обрывать рефлекс перед последней третью и задерживать его в себе. Чрезвычайно важно иметь в виду те существенные психологические последствия, которые из этого проистекают. Легко представить дело так, будто оборванный на двух третях рефлекс отличается от рефлекса полного только количественно: тем, что он не доведен до конца. Однако оказывается, что вместе с этим коренным обра- з меняется и психологическая природа, а с нею и биологическое и социальное назначение его. Если верно то, что всякая мысль есть речь, то не менее верно и *© что внутренняя речь отлична от внешней по самой своей психологической природе. Это отличие может быть сведено к двум основным пунктам: первый заключается в том, что во всяком рефлексе мы имеем как бы три опорных пункта, на которые опирается рефлекторная дуга и в которых происходит усиленный разряд и трата нервной энергии. Этот разряд начинается обычно в каком-нибудь периферическом органе благодаря внешнему толчку или раздражению (световому лучу, воздушной волне и т. п.). Затем он перерабатывается в центральной нервной системе и в периферическом ответном эффекторе. Психологам удалось установить, что трата энергии в центральном пункте нервной системы и в рабочем органе находится в обратном отношении. Чем усиленнее и больше затрата центральной энергии, тем слабее и меньше ее внешнее обнаружение, и, наоборот, чем интенсивнее внешний эффект реакции, тем слабее центральный момент. Организм как бы располагает известным фондом нервной энергии. Каждая реакция как бы совершается в пределах известного энергетического бюджета. И всякое усиление и усложнение центрального момента оплачивается соответствующим ослаблением ответного движения рабочего органа. Принцип этот назван К. Н. Корниловым принципом однополюсной траты энергии и сформулирован на основании точных экспериментов над различными видами реакции. Сущность исследования, произведенного К. Н. Корниловым, сводится к тому, что измеряется количество затрачиваемой при реакции энергии, при постепенном усложнении центрального мыслительного акта. Испытуемому предлагается реагировать на звонок нажимом на кнопку ключа; затем ему предлагается реагировать не раньше, чем он узнает в звонке тот самый, который был ему показан прежде, до начала опыта. Далее предлагается на один звонок реагировать правой, а на другой — левой рукой. Другими словами, в реакцию, между моментами восприятия раздражения и ответным движением рабочего органа, вставляется некоторый мыслительный процесс узнавания, различения или, выбора, который, как это показали еще исследования Вундта, сказывается в возрастании длительности реакции и, согласно новейшим исследованиям, в падении ее интенсивности. Иначе говоря, если нам предстоит совершить движение только после того, как мы успели хорошо разобраться в сигнале или произвести выбор между одним сигналом и другим, то в этих случаях наше Движение окажется более слабым и менее энергичным, чем в том случае, когда мы будем реагировать непосредственно вслед за наступлением сигнала. При этом исследование показало, что уменьшение затраты периферической энергии находится в строго математическом отношении
случае оплачен акт выбора между двумя сигналами. И простейшие наблюдения показывают, что трудно соединить какую-либо усиленную физическую работу со сложными умственными операциями; невозможно решать сложные задачи, быстро бегая по комнате; нельзя одновременно сосредоточиться на какой-либо мысли и в это время энергично колоть дрова. Всякая мысль вызывает как бы столбняк, оцепенение и по самой своей природе парализует и приостанавливает движение. Вот почему у задумавшегося человека всегда вид остановившегося, и, если нас что-либо сильно поразит, мы непременно задержим движение. Таким образом, устанавливается, что, хотя мысль и есть движение, она же, как это ни странно, есть в такой же мере задержка движения, т. е. такая форма его, когда усложнение центральных моментов реакции ослабляет и в тенденции сводит к нулю всякое внешнее ее обнаружение. Отсюда психологи делают, между прочим, тот чрезвычайно важный для педагогики вывод, что соединение умственного и физического труда, которое считается основой трудовой педагогики, никак не следует понимать как одновременный синтез одного и другого. Копать грядку на огороде и одновременно выслушивать урок по ботанике, строгать доску в столярной мастерской и одновременно проходить закон сложения и разложения сил — это значит, как показал К. Н. Корнилов, одинаково плохо копать грядку и усваивать ботанику, одинаково искажать закон параллелограмма сил и портить доску. С психологической точки зрения соединение теории и практики в воспитании должно означать не что иное, как целесообразное и планомерное чередование тех и других видов труда, которое гармонически осуществляет ритмическую трату энергии то на одном, то на другом полюсе нашего организма. Ритм, в сущности говоря, потому и означает высшую форму органической деятельности и жизни, что представляет собою как бы чередование движения и покоя и поэтому гарантирует совершенство и безостановочность движения. Ритм с психологической точки зрения есть не что иное, как самая совершенная форма синтеза движения и покоя. Вот почему беспримерная и удивительная работа неутомимых мышц в нашем сердце возможна только благодаря ритмическому характеру его биений. Только потому, что оно бьется толчками и после каждого удара отдыхает, оно бьется безостановочно всю жизнь. Отсюда принцип известной ритмичности в воспитании делается психологически неизбежным для теории и практики трудовой школы. Б применении к психологическому объяснению мышления этот принцип однополюсной траты энергии поясняет, что оборванность рефлекса на двух третях возмещается усилением и усложнением его центральной части, т. е. той переработкой, которой подвергается в центральной системе всякое идущее извне возбуждение. Это значит, что благодаря оборванности и подавленности рефлекса, т. е. благодаря превращению полной реакции в мысль, реакция выигрывает в гибкости, тонкости и сложности своих взаимоотношений с элементами мира, и действие может быть совершено в бесконечно более высоких и тонких формах. Другое отличие мысли от полной реакции заключается в том, что, выступая в роли только внутреннего движения, эта реакция утрачивает смысл всякой реакции как известного движения, направленного вовне, и приобретает совершенно новое значение внутреннего организатора нашего поведения. В самом деле, громко сказанное слово, как и всякое движение организма, всегда направлено на нечто лежащее вне нас и всегда стремится создать или произвести известную перемену в элементах среды. Реакция, не обнаруженная до конца, разрешенная внутри самого организма, естественно, такого назначения иметь не может — и либо она должна сделаться биологически совершенно ненужной и вместе с психическими отбросами атрофироваться и уничтожиться в процессе развития, либо получить совершенно новые значение и смысл. И именно благодаря тому, что реакция эта целиком разрешается внутри организма, она приобретает значение и роль внутреннего раздражителя новых реакций. Система наших мыслей как бы предварительно организует поведение, и если я сперва подумал, а потом сделал, то это означает не что иное, как такое удвоение и усложнение поведения, когда внутренние реакции мысли сперва подготовили и приспособили организм, а затем внешние реакции осуществили то, что было наперед установлено и подготовлено в мысли. Мысль выступает в роли предварительного организатора нашего поведения. Сознательное поведение и воля Легко может показаться, что с установлением двигательной и рефлекторной природы нашей мысли уничтожается всякое различие между разумным или сознательным и рефлекторным или инстинктивным типами поведения. Сама собой возникает мысль, что человеческая психика и поведение в таком понимании подвергаются механическому истолкованию, при этом на человеческий организм устанавливается взгляд как на автомат, реагирующий теми или иНыми действиями на те или иные раздражения среды. И как Декарт определял животных как движущиеся механизмы и отказывал им в одушевленности и психике, так же современные психологи склонны Понимать и трактовать человека. Однако вся огромная разница
Устанавливая особенности человеческого труда, Маркс указывает на чрезвычайно важную психологическую разницу, отличающую труд человека от труда животного. Из этого удобнее всего исходить в анализе сознательного или разумного поведения. Постройка паутины или ячеек еще всецело принадлежит к формам инстинктивного поведения, т. е. пассивного приспособления организма к среде, которая ничем не отличается от такого же точно механизма переваривания пищи в человеческом желудке или кишках. Поведение человека действительно включает в себя принципиально новый момент: предварительное наличие в голове результатов работы как направляющий стимул всех реакций. Легко заметить, что здесь речь идет ни о чем другом, как о некотором удвоении нашего опыта. Человеческая постройка отличается от пчелиной только тем, что человек строит как бы дважды: сперва в мыслях, потом на деле. Отсюда и вытекает иллюзия разумной и свободной воли. Создается впечатление, будто поступки человека имеют двойственный характер— сперва захотел, потом сделал. Иллюзия усиливается еще тем, что первый момент может быть оторван от второго и осуществлен независимо от него. Складывается впечатление, будто хотение или желание, свободное волевое усилие совершенно независимы и не подчинены реальному движению. Я могу хотеть поднять руку и в то же время сознавать, что она связана, и, следовательно, движение не может быть осуществлено. Во всех этих случаях мы имеем дело с несомненной иллюзией, психологическая природа которой всецело и без всякого остатка поясняется той внутренней ролью, в которой выступают наши мысли. Что всякая наша реакция может сделаться в своей ответной части раздражителем новой реакции, с этим мы встречались неоднократно (например, в цепном механизме инстинкта). Собака в ответ на раздражение мясом выделяет слюну, но она же под влиянием вновь возникающего при этом раздражения либо выплевывает, либо проглатывает слюну, и, таким образом, ответная часть одного рефлекса (выделение слюны) становится возбудителем последующего. Передача рефлексов с одних систем на другие н есть тот основной механизм, которым идет наша так называемая разумная воля. Волевой акт непременно предполагает предшествующее наличие в нашем сознании некоторых желаний, хотений, стремлений, связанных, во-первых, с представлением о той конечной цели, к которой мы стремимся, а во-вторых, с представлением тех поступков и действий, которые нужны с нашей стороны для осуществления нашей цели. Таким образом, двойственность лежит в самой основе волевого акта и становится особенно приметной и наглядной тогда, когда в нашем сознании сталкиваются несколько мотивов, несколько противоположных стремлений, и из этих разных стремлений и мотивов сознанию приходится делать выбор. Именно моменты борьбы мотивов открываются нашему самонаблюдению как самые убедительные, непосредственные доказательства существования свободы выбора. Никогда человек не чувствует себя таким свободным поступать по своему произволу, как тогда, когда ему одновременно предстоит несколько возможностей и поступков и он как бы свободным актом воли производит между ними выбор. Но ни один из актов нашей психики не представляет при объективном анализе такого удобства для обнаружения истинной детерминированности и несвободы, как акт борьбы мотивов. Чрезвычайно легко понять, что с объективной точки зрения наличие волевого мотива представляет собой не что иное, как известный внутренний раздражитель, который побуждает нас к тому или иному действию. Одновременное сталкивание нескольких мотивов означает возникновение нескольких внутренних раздражений, которые борются за общее двигательное поле со стихийной силой нервных процессов. Исход борьбы всегда заранее предопределен: с одной стороны, сравнительной силой борющихся сторон, а с другой — той обстановкой борьбы, которая складывается из общего равновесия сил внутри организма. Старинный философический анекдот о буридановом осле, который умер от голода между двумя охапками сена только потому, что не мог решить, которая из двух представляет для него больший интерес, полон глубокого психологического смысла. Реально, конечно, такой случай совершенно невозможен, так как в действительности полное уравновешение двух раздражителей едва ли осуществимо; далее, решающее воздействие в таком случае оказал бы прежний опыт осла, который привык находить свою пищу с правой или с левой стороны. Но теоретически этот случай выражает верную психологическую мысль, что при полном и идеальном уравновешении всех мотивов, направленных в противоположные стороны, мы получаем полное бездействие воли, и в данном случае психический механизм будет работать по всем законам точной механики, которые оставляют в покое тело, находящееся под действием двух одинаковых сил, направленных в разные стороны. Таким образом, полный волевой акт следует понимать как такую систему поведения, которая возникает на основании инстинктивных и эмоциональных влечений организма и всецело предопределена ими. Само появление того или иного хотения или желания в сознании всегда имеет своей причиной то или иное изменение в организме. То, что у нас принято называть беспричинными желаниями, является таковым постольку, поскольку причина их утаена или скрыта в бессознательной сфере. Далее, влечение обычно преломляется в сложных мыслительных процессах; оно пытается овладеть нашими мыслями, потому что мысль — это подступы к поведению, а кто овладевает подступами, тот берет и крепость. Мышление является как бы передаточным механизмом между влечениями и поведением и осуществляет организацию последнего в зависимости °т тех внутренних понуканий и побуждений, которые исходят из глу-
Психология языка Легче и проще всего вскрыть описанные выше механизмы мышления и воли на частном примере языка — основной стихии, реализующей наше мышление как систему внутренней организации опыта. С точки зрения психологии язык индивидуальный и общенародный переживает три различные стадии своего развития. Первоначально язык возникает из рефлекторного крика, который совершенно неотделим от других эмоциональных и инстинктивных симптомов поведения. Легко показать, что в повышенных эмоциональных состояниях: страха, гнева и др. — язык является как бы частью общего биологического комплекса приспособительных движений, исполняющей, в частности, функцию выражения, с одной стороны, и координации поведения, с другой. Выразительный крик непосредственно связан с выразительным дыханием, т. е. мы кричим так, как мы дышим. Но и на самых ранних ступенях развития крик не ограничивался этим. В стадном поведении животного он являлся средством призыва на помощь, сигналом от вожака к стаду и т. д. В такой стадии рефлекторного крика появляется первоначально голос у человека. Новорожденный ребенок кричит потому, что струя воздуха колеблет его голосовые связки. В самые первые дни жизни определяется и оформляется рефлекторный характер детского крика. На этой стадии, вероятно, застывает язык у низших животных. Но в самые первые месяцы жизни возникает другая стадия языка, строящаяся по всем законам воспитания условного рефлекса. Ребенок воспринимает собственный крик и следующий за ним ряд раздражений, скажем — приход матери, кормление, пеленание и т. д. Благодаря частому совпадению того и другого у ребенка замыкается новая условная связь, и он уже начинает требовать появления матери специально для этого воспроизводимым криком. Здесь впервые возникает язык как таковой, в его психологическом значении, как связь между известным действием организма и зависимым от него смыслом. Крик ребенка уже имеет смысл потому, что он выражает нечто понятное самому ребенку и его матери. Но и на этой стадии язык еще чрезвычайно ограничен. Он понятен только тому, кто говорит, т. е. он всецело обусловлен и ограничен той условной связью, которая была дана в личном опыте человека. Таков язык животных. Что животные научаются понимать смысл слов и с известными звуками связывать свои или чужие известные действия, скажем, ложиться, вставать, служить по приказанию хозяина, — общеизвестный факт. Однако от человеческого этот язык отличается тем, что для выработки понимания его смысла необходимо всякий раз провести через личный опыт данного животного ту условную связь, которая должна замкнуться между звуком и действием. Другими словами, понимание такого языка ограничено только тем, кто участвует в его создании. Психологическое языкознание показало, что все существующие языки прошли через эту стадию и первоначально всякое слово, появляющееся в языке, создается именно таким способом. Чрезвычайно легко заметить, что в современном к !ыке есть слова двоякого рода: одни слова наглядным образом связывают известные звуки с известным смыслом, другие, наоборот, непонятным для нас образом производят это соединение. Если взять такие слова, с одной стороны, как «голубь», «ворон», а с другой — «голубой» и «вороной», то легко увидеть, что в первой группе нам совершенно непонятно, почему звуки «голубь» означают именно голубя, и мы легко можем себе представить, что при известном условии мы могли бы словом «голубь» обозначить ворона и наоборот. Напротив того, когда мы говорим «голубой» и «вороной», мы слышим звуки, мы понимаем не только их значение, но и ту причину, по которой звуки обозначают именно этот цвет. Для нас было бы нелепо черного коня называть голубым, а голубое небо — вороным, потому что голубой означает «похожий на голубя», «цвета голубиного крыла», а вороной означает «цвета крыла ворона». Таким образом, психологи-языковеды различают в слове три элемента: звук, значение и образ — или связь того и другого, как бы пояснение, почему данное слово связано с данным звуком. Слова и различаются в языке по наличию или по отсутствию этого третьего элемента. Этимологические исследования показывают: даже если слово утеряло свой образ, то в предшествующем значении оно всегда имело его и, следовательно, ни одно слово не возникает случайно, нигде связь между смыслом и звуком не является произвольной, и всегда она коренится в том сближении двух сходных явлений, которое легко заметить в происхождении таких слов, как «голубой» и «вороной». Новое слово в данном случае означает связь, устанавливаемую между одним предметом и другим, и такая связь, данная в опыте, оказывается всегда налицо в происхождении решительно каждого слова. Другими словами, всякое слово в момент своего возникновения имеет образ, т. е. наглядную и понятную для всех мотивировку смысла. Слово не только значит, но и показывает, почему оно значит. Постепенно, в процессе роста и развития языка, образ умирает, и слово сохраняет только смысл и звук. Это означает, что разница Между словами обоего рода всецело сводится к возрастному различию: слова помоложе имеют образ, слова постарше полузабыли его, но еще легко могут обнаружить при попытке вглядеться в них. Слова глубоко старые открывают свой образ только после тщательных исторических раскопок первоначальных смыслов и форм слова.
Отсюда легко видеть, что всякие процессы понимания, в том числе и понимание языка, психологически означают связь. Понимать французский язык — это значит уметь устанавливать связь между воспринимаемыми звуками и значениями слов. Связь может быть как узколичного характера (язык животных), так и широко социального (язык людей). Но самым примечательным фактом для психологии языка является то, что язык исполняет как будто две совершенно различные функции; он служит, с одной стороны, средством социальной координации опыта отдельных людей, с другой — самым важным орудием нашей мысли. Мы мыслим всегда на каком-нибудь языке, т. е. мы разговариваем сами с собой и организуем наше поведение внутри себя таким же способом, каким организуем наше поведение в зависимости от поведения других людей. Другими словами, мышление легко обнаруживает свой социальный характер и показывает, что наша личность организована по тому же образцу, что и социальное общение и что первобытное представление о психике как о двойнике, живущем в человеке, есть самое близкое к нашим понятиям. Традиционные психологические учения считали неразрешимой загадкой понимание чужой психики, так как всякое психическое переживание недоступно восприятию постороннего лица и открывается только в интроспекции. Я познаю только свою собственную радость — каким же путем могу я познавать радость другого человека? При этом все психологические теории, как бы различно они ни строились, всегда в основу разрешения вопроса клали убеждение, что мы познаем других постольку, поскольку познаем себя. Толкуем ли мы чужие движения по аналогии со своими, производим ли процесс вчувствования, т. е. вызывания в себе собственных эмоций по поводу чужой мимики, мы всегда, как утверждали психологи, переводим чужую психику на язык нашей собственной и познаем других через себя. На самом деле, с генетической точки зрения развития детского сознания и с точки зрения психологического учения о волевом акте вернее как раз противоположное утверждение. Мы видели, что самое понимание или сознавание наших поступков возникает как связь между внутренними раздражениями и, как всякая связь условного порядка, возникает из опыта в процессе совпадения различных раздражителей. Таким образом, ребенок прежде научается понимать других и только потом по этому же образцу научается понимать себя. Правильнее было бы сказать, что мы знаем себя постольку, поскольку мы знаем других, или, еще точнее, что мы сознаем себя лишь в той мере, в какой сами для себя являемся другим, т. е. чем-то посторонним. Вот почему язык, это орудие социального общения, есть вместе с тем и орудие интимного общения человека с самим собой. При этом саму сознательность наших мыслей и поступков следует понимать как тот же механизм передачи рефлексов на другие системы, или, говоря в терминах традиционной психологии, как круговую реакцию. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
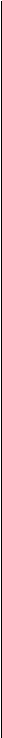 выводом отсюда явилось бы полное прекращение всякого мышления.
выводом отсюда явилось бы полное прекращение всякого мышления. к общему количеству затрачиваемой на реакцию энергии и, таким образом, может служить как бы мерой энергии, затрачиваемой при том или ином мыслительном процессе. Если мы допустим, что при реакции на простой сигнал испытуемым затрачено А единиц энергии, а при реакции выбора между двумя сигналами — В, то А—В —т— и будет той мерой психической энергии, которой в данном
к общему количеству затрачиваемой на реакцию энергии и, таким образом, может служить как бы мерой энергии, затрачиваемой при том или ином мыслительном процессе. Если мы допустим, что при реакции на простой сигнал испытуемым затрачено А единиц энергии, а при реакции выбора между двумя сигналами — В, то А—В —т— и будет той мерой психической энергии, которой в данном




 между человеческим опытом и опытом животного дает наглядное опровержение такого взгляда.
между человеческим опытом и опытом животного дает наглядное опровержение такого взгляда. бинных основ нашей психики. Вот почему полная детерминированность воли, совершенно обоснованной для психологии, и выступает коренной предпосылкой для научного анализа ее процессов; беспричинные и недетерминированные явления не могут быть предметом научного изучения и предположения.
бинных основ нашей психики. Вот почему полная детерминированность воли, совершенно обоснованной для психологии, и выступает коренной предпосылкой для научного анализа ее процессов; беспричинные и недетерминированные явления не могут быть предметом научного изучения и предположения.

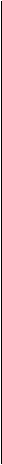
 Показать, как происходит этот процесс умирания, — значит показать, каким образом из первоначальной стадии языка, только для его создателей, слово переходит в общенародный язык. Умирание образа происходит оттого, что слово употребляется в гораздо более широких связях, чем те, которые послужили причиной его возникновения. Если взять такие слова, как «чернила» и «конка» легко заметить тот образ, который лежит в их основе. Между тем мы сейчас совершенно свободно, без всякого насилия над мыслью говорим о красных, синих, зеленых чернилах, о паровой конке, хотя с точки зрения этимологической такие сочетания не представляются возможными. Тот, кто назвал жидкость для письма чернилами, остановился на одном признаке этого предмета, на его черном цвете, и, сблизив новое явление с ранее познанным признаком, обозначил им весь предмет. Но этот признак оказался вовсе не самым существенным, а главное, единственным в предмете. Он оказался случайным и потонул в множестве других признаков, которые в своей целокупности послужили выработке общего понятия о чернилах. Когда чернила означали непременно нечто черное, это была связь, установившаяся в личном опыте одного лица; когда же это обозначение стало прилагаться во множестве других опытов, люди забыли о том, что чернила — это непременно нечто черное, и слово из личной условной связи сделалось общим, социальным термином. Иначе говоря, мысль оттеснила образ, растворила его в себе, и только по звуковому родству всякий может легко дознаться о происхождении слова.
Показать, как происходит этот процесс умирания, — значит показать, каким образом из первоначальной стадии языка, только для его создателей, слово переходит в общенародный язык. Умирание образа происходит оттого, что слово употребляется в гораздо более широких связях, чем те, которые послужили причиной его возникновения. Если взять такие слова, как «чернила» и «конка» легко заметить тот образ, который лежит в их основе. Между тем мы сейчас совершенно свободно, без всякого насилия над мыслью говорим о красных, синих, зеленых чернилах, о паровой конке, хотя с точки зрения этимологической такие сочетания не представляются возможными. Тот, кто назвал жидкость для письма чернилами, остановился на одном признаке этого предмета, на его черном цвете, и, сблизив новое явление с ранее познанным признаком, обозначил им весь предмет. Но этот признак оказался вовсе не самым существенным, а главное, единственным в предмете. Он оказался случайным и потонул в множестве других признаков, которые в своей целокупности послужили выработке общего понятия о чернилах. Когда чернила означали непременно нечто черное, это была связь, установившаяся в личном опыте одного лица; когда же это обозначение стало прилагаться во множестве других опытов, люди забыли о том, что чернила — это непременно нечто черное, и слово из личной условной связи сделалось общим, социальным термином. Иначе говоря, мысль оттеснила образ, растворила его в себе, и только по звуковому родству всякий может легко дознаться о происхождении слова.