
|
|
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОАОГИЯ 18 главаСамо по себе преподавание церковнославянского языка может быть так же бесполезно в том виде, в каком это делалось раньше, как поднимание гирь в шведской гимнастике, и в будущей жизни ученика вызубренная им церковнославянская грамматика так же мало пойдет в употребление, как приемы шведской гимнастики в жизни большинства из нас. Но предполагалось, что грамматика так же оздоровляет и напрягает мозг, как шведские гири — мускулы руки. И в психологическом отношении эта теория всецело основывалась на прежней, так называемой психологии способностей, кото- рая расчленяла весь психический организм на целый ряд отдельных пушевиых способностей, находила для каждой из них свое особое место в мозгу и предполагала, что психология человека складывается из совместного действия этих способностей, так же как его .тело складывается из отдельных органов. Надо сказать прямо, что ни психологическая, ни педагогическая основы этой теории не выдерживают никакой критики и в свете современного знания отдают средневековым обскурантизмом. Прежде всего педагогический опыт обнаружил, что формальная дисциплина того или иного предмета оказывается чрезвычайно незначительной. Правильнее говоря, она может принять и значительные размеры, но только в очень узком кругу. Запоминание латинских глаголов или неправильных спряжений может сильно развить навыки запоминания, но только на латинские глаголы. Общие процессы запоминания или не обнаруживают вовсе никакого улучшения, или чрезвычайно незначительное. Таким образом, формальная дисциплина каждого предмета оказывается связанной только незначительными улучшениями в области накопления специальных навыков, и, следовательно, ее воспитательное значение всецело исчерпывается профессиональным обучением. Долгое обхождение с латинской кухней совершенствует память аптекаря на рецепты, библиотекарь научается узнавать по корешку десятки тысяч книг и помнить место каждой из них на полке, но ни память аптекаря и знание им иностранных языков, ни память библиотекаря на что-нибудь другое не совершенствуются за счет их профессиональных упражнений. Напротив, есть все основания думать, что специализация наших способностей всегда покупается за счет известного ограничения этих способностей в других областях и оплачивается чрезвычайно дорогой ценой. Исследование других способностей, как и исследование памяти, привело к тем же результатам, т. е. показало, что формальная дисциплина каждого предмета сказывается в известных размерах на выработке специальных навыков. Другими словами, наша способность как бы специализируется, приобретает некоторый односторонний и чрезвычайно узкий характер. Правда, в этой односторонности потеря в широте вознаграждается значительным выигрышем как в общей производительности, так и в гибкости этой способности, но в целом формальная дисциплина отдельных предметов, как ни парадоксально, скорее действует отупляющим и ограничивающим образом, чем развивающим и расширяющим. По французской пословице, всякое определение есть уже ограничение, и ни в какой области не справедливо это в такой мере, как именно в развитии наших снособностей. Поэтому в нынешней психологии большинство исследователей склонны с величайшей подозрительностью относиться к такому предмету в учебном плане, который вводится только в силу его формального значения. Полезность каждого предмета и уместность его в педагогической 1стеме определяются прежде всего и главным образом прямой
пользой и значением, которые могут быть приписаны сообщаемым им знаниям. Наконец, самое психологическое представление о работе человека, как составленной из многих отдельных способностей, це выдерживает строгой критики. Каждая наша «способность» работает на самом деле в таком сложном целом, что взятая сама по себе она не дает и приблизительного представления о настоящих возможностях ее действия. Человек со слабой памятью тогда, когда мы ее исследуем в изолированном виде, может оказаться запоминающим лучше, чем человек с хорошей памятью, просто в силу того, что память никогда не выступает сама по себе, но всегда в тесном сотрудничестве со вниманием, общей установкой, мышлением — ц совокупное действие этих различных способностей может оказаться совершенно независимым от абсолютной величины каждого из слагаемых. Поэтому, само собой разумеется, в педагогике выдвигается на первое место принцип реального обучения. Если знания чрезвычайно мало развивают наши психические способности, то приходится ценить эти знания постольку, поскольку они нужны сами по себе, и лишь в очень ограниченных размерах постольку, поскольку они нужны для выработки некоторых общих навыков. При этом формальная сторона выработки навыков исчерпывается такими элементарными и примитивными движениями, которые делают почти безразличным предмет, при изучении которого они могут быть приобретены. Единственным, следовательно, критерием знания делается его жизненная ценность, надобность для жизни или принцип реальности. Основным законом воспитания является закон образования условных рефлексов, который говорит о том же самом. Если мы впоследствии в жизни хотим получить какую-нибудь связь между теми или иными событиями или фактами, с одной стороны, и определенной реакцией человека, с другой, мы должны и во время воспитания соединять то и другое не один, но много раз; тогда мы можем быть уверены, что новая нужная нам связь действительно замкнется. Таким образом, школа — величайший аппарат замыкания новых связей — вся должна быть нацелена на жизнь, потому что только при таком устремлении школьные приемы могут получить свое оправдание и смысл. Синтетическое знание Наша школа до сих пор страдает глубоким дуализмом, который она получила в наследие от школы прежней. Как ни подходить к нашей школьной системе, нельзя не заметить, что до сих пор ее учебный план распадается на две большие непримиримые группы. С одной стороны, науки естественные, науки о природе, с другой — науки гуманитарные, науки о духе, и между теми и другими не пере- йрасывается ни один мостик в школьном здании. Ученики воспитываются и обучаются в том, может быть, бессознательном убеждении, что это и есть в действительности два разных мира — мир природы и мир человека и что они отделены друг от друга непроходимой пропастью. Ни одним словом не связывается один круг предметов с другим, й если учащийся приобретет другие взгляды и другое понимание мира, то это произойдет помимо школы. Школа окажется здесь ни при чем, ее труд был направлен к тому, чтобы укоренить и подчеркнуть эту раздвоенность нашего знания и нашего опыта. Когда ученик переходит от мира физики к миру политической экономии и литературы, он как бы переносится в совершенно новый мир, подчиненный совсем особым законам и ни единой точкой не напоминающий только что" оставленный — мир наук естественных. И это не представляет случайного порока русской школы, но является исторически неизбежным выводом из всего развития европейской науки и европейской школы. В данном случае школа отражает то, что было заложено в самом развитии философии и науки. И только труд, как предмет изучения, позволяет психологически объединить то и другое, потому что, с одной стороны, он, как процесс, происходящий между человеком и природой, всецело опирается на естествознание, а с другой, как процесс координации социальных усилий, является базой для гуманитарных, социальных наук. Труд, построенный на системе сознательных реакций, и есть тот мост, который переброшен от мира наук естественных к миру наук гуманитарных. Это единственный «предмет», который представляет объект изучения тех и других. В самом деле, если в школьном естествознании изучался человек, то только той своей частью, которой он входит в анатомию и физиологию, лишь постольку, поскольку он является млекопитающим животным; и мир природы, из которого был исключен человек, казался бесконечно обиженным и обедненным по сравнению с богатством реальной жизни. И обратно, мир человеческих действий и поступков казался повисшим в воздухе, какой-то радугой, не уходящей корнями в землю. И только труд в историческом значении и в психологической сущности является той точкой встречи в человеке биологического и надбиологического начал, в которой сплелись в узел животное и человек и в которой перекрестилось гуманитарное и естественное знание. Таким образом, синтез в образовании, о котором мечтали психологи с Давних времен, делается осуществимым в трудовой школе. Практика "Трудовое воспитание, — говорит Блонский, — есть воспитание властелина пророды» (1919, с. 7), потому что техника означает не Что иное, как реальное и овеществленное господство человека над природой, подчинение ее законов служению человеческой пользе.
Всякое знание в конечном счете возникало и всегда возникает из какой-нибудь практической потребности или надобности, и если в процессе развития оно отрывается от породивших его практических задач, то в конечных пунктах своего развития оно снова направляется к практике и находит в ней высшее оправдание, подтверждение и проверку. В частности, величайшим психологическим грехом всей схоластической и классической системы образования был совершенно отвлеченный и безжизненный характер знаний. Знание усваивалось, как готовое блюдо, и решительно никто не знал, что с ним делать. При этом забывалась сама природа знания, как и природа науки: оно не есть готовый капитал или готовое блюдо, знание всегда деятельность, война человечества за обладание природой. Научная истина смертна, она живет десятки, сотни лет, но потом умирает, потому что в процессе овладения природой человечество всегда подвигается вперед. В полном разрыве с этим положением находилась школьная наука тогда, когда в догматическом виде искала истины, которые должны были заучиваться учениками. Нет более ложного психологического представления об истине, чем то, которое выносили наши ученики из школьных учебников. Истина преподносилась им как нечто законченное и готовое, как результат какого-то процесса, окончательно найденный и безусловно достоверный. Любопытно, какое величайшее неуважение к научной истине вырабатывалось у учеников в результате знакомства с ней из рук Краевича и Саводника, когда истина казалась разграфленной по параграфам и учащийся никак не мог отличить, где сама по себе научная правда, а где дидактические приемы составителя учебника. Сам процесс раскрывания истины утаивался, и она преподносилась не в динамике возникновения, но в статике уже найденного правила. И так как все это заучивалось и зазубривалось на веру, то совершенно естественно, что отношение наших учащихся к науке и научной истине немногим отличалось от отношения дикарей к своему вероучению; то суеверное и тупое поклонение букве школьной истины, которое было у нас последним словом педагогики, способно разве только воспитывать цивилизованных дикарей. Истина преподносилась всегда в виде отвлеченного тсоретичес- кого правила, добытого не в процессе искания и труда, но как бы в чисто головной работе. Она никогда не связывалась ни с породившими ее жизненными потребностями, ни с вытекавшими из нее жизненными выводами. Между тем природа научной истины, касается ли она какого-нибудь ничтожного гигиенического правила или теории относительности, все равно носит практический характер, или, иначе говоря, истина всегда конкретна. И наконец, в том бесконечном смешении научных истин, которые преподносились ученику, не мог бы разобраться и опытный философ-методолог без того, чтобы не прийти к самым неутешительным выводам. Научные истины в школьном курсе сваливались в кучу в полном смысле слова, и ни один хитроумнейший педагог не мог бы объяснить, какая связь между латинскими склонениями, наполеоновскими войнами и законами электролиза. Лоскутность и разрозненность школьных знаний загромождали восприятие ученика бесконечным числом отдельных фактов и исключали объединяющую и связывающую точку зрения на предмет. Поэтому в области философии и миропонимания у нас в образованных кругах господствовали самое позорное верхоглядство, легкомысленнейшая фразеология и чудовищная неосведомленность в элементарных вопросах. Все эти пороки прежней школы легко преодолеваются при трудовом обучении, которое, во-первых, синтезирует и объединяет все предметы, во-вторых, дает им практический наклон и употребление и, наконец, в-третьих, раскрывает сам процесс нахождения истины и ее движения после того, как она уже найдена. Профессионализм и политехнизм Хотя тенденции современной промышленности и направлены в сторону полной политехнизации труда, однако этот процесс нельзя ни в малой мере считать законченным, даже в такой высоко капитализированной стране, как Америка, а тем более у нас, в России. Таким образом, политехнизм есть правда завтрашнего дня, на которую должна ориентироваться школа в своей работе, но эта правда еще не окончательно воплощена сегодня, и перед школой стоят задачи наряду с политехническим образованием удовлетворить и непосредственные житейские потребности, которые предъявляются к ней. Профессионализм, необходимо соблюдаемый в нашей школе, должен пониматься как уступка жизни, как мостик, перебрасываемый от школьного образования к житейской практике. Это означает, что при профессиональном уклоне школа не утрачивает вовсе политехнического характера, политехнизм остается ее главным и основным ядром, но политехническое образование заостряется на одном конце для того, чтобы этим концом оно могло непосредственно войти в жизнь. В этом отношении связь общего и специального образования в новом освещении вполне покрывается
Легко понять, что эта старая формула всецело применима к трудовому воспитанию, если все о чем-нибудь считать равносильным с требованием профессионализма, а что-нибудь обо всем — политехнизма. Ни один педагогический принцип, выдвигаемый сейчас, не грозит такими дурными последствиями в случае его неправильного понимания, как принцип трудовой школы, и надо прямо сказать, что российская практика трудовой школы являла яркий пример таких извращений. Блонский в своей книге о трудовой школе говорит, что в ней нет ни одной страницы и ни одного принципа, который не мог бы быть превращен в самую злую карикатуру на трудовой принцип: «Я видел школы-коммуны, воскресившие полностью нравы приютских закрытых заведений. Я видел инструкторов, вырабатывающих «день ребенка» для всего данного района с точностью до 15 минут. Я видел дошкольниц, учивших пятилетних детей в вонючей кухне варить пищу. Ко мне самому «удирали» дети с огородных работ, доводивших их до полного изнеможения от зноя и усталости. Я видел учительниц, которые думали, что таскание тяжелых и грязных дров, уборка клозетов и подметание пыли есть трудо-ваяшкола, тогда как, по-моему, это вредная и каторжная работа даже для взрослых. Я видел столярные мастерские, в которых я, взрослый, задыхался и где дети работали в невероятных позах. Я видел работы по металлу, после которых, по-моему, дети должны были получать воспаление легких. Я видел болтушек, которые, заводя длинную беседу по поводу всякого житейского пустяка, думали, что они проводят трудовую школу. Я видел кафедры для рассказывающих учителей на школьной кухне. Я уверен, что ряд педагогов поведут детей в фабричный ад, бросят подростков в грохот и жар заводов, поставят их у опасных машин, наполнят их легкие пылью и углем и потом станут уверять всех, что они воспитывают «по Блонскому» {1961, с. 619). Глава XI СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СВЯЗИ С ВОЗРАСТНЫМ РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ Понятие о приспособлении Как известно, в понятии приспособления современная биология усматривает основной принцип развития органической жизни на земле. Мы и в педагогике говорим, что конечной целью всякого воспитания является приспособление ребенка к той среде, в которой ему придется жить и действовать. Но надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, то, что приспособление к среде может быть самого различного свойства. Приспособленным к среде окажется и ловкий карьерист, делец и жулик, который великолепно учитывает малейшее раздражение среды, умеет на него реагировать подходящей реакцией и успевает удовлетворить все свои жизненные потребности и при этом испытывает максимальное чувство самоудовлетворения, которое выражается в положительном эмоциональном эффекте и доставляет ему возможность всякий раз быть господином положения. Спрашивается: представляет ли такой человек идеал воспитанной личности с точки зрения педагогики? И обратно, какой-нибудь революционер, который никак не может ужиться ни в каком общественном кругу, восстает против общества и всякий раз приходит в столкновение со средой, обнаруживая тем свою неприспособленность, — назовем ли мы такого человека дурно или ошибочно воспитанным? Во-вторых, в силу своего возрастного развития ребенок в разной степени оказывается приспособленным к среде. Таким образом, проблема приспособления к среде должна быть рассмотрена в зависимости и от возрастного поведения ребенка. Рассмотрим оба вопроса. Относительно первого приходится сказать, что приспособление нужно рассматривать не иначе, как с социальной точки зрения. При этом никогда не следует исходить из данной и наличной среды, как из чего-то неизменного и постоянного. Социальная среда содержит в себе бесчисленное множество самых различных сторон и элементов. Элементы всегда находятся в жесточайшем противоречии и борьбе друг с другом, и вся среда должна пониматься не как статистическая, первоначальная и устойчивая система элементов, но как Диалектически развивающийся динамический процесс. Революционер может оказаться с социальной точки зрения более приспособленным к высшим тенденциям среды, чем карьерист, потому что он приспособлен к социальной динамике, а не к социальной статике. Отношение человека к среде всегда должно носить характер
активности, а не простой зависимости. Поэтому приспособленность к среде может означать жесточайшую борьбу с отдельными элементами среды и всегда известные активные взаимоотношения с ней Следовательно, в одной и той же социальной среде возможны совершенно разные социальные установки индивида, и все дело в том, в каком направлении будет воспитана эта активность. Второй вопрос решается следующим образом. Ребенок, действительно, проходит через много стадий приспособления к социальной среде, и функции его социального поведения сильно меняются в зависимости от той или иной возрастной ступени. Поэтому социальное поведение ребенка следует рассматривать как поведение, многократно преломленное в зависимости от биологического развития организма. Ребенок и среда А. Залкинд вскрывает объективный и материалистический смысл учения Фрейда в приблизительно следующем виде. Фрейд устанавливает два принципа, которым подчинена деятельность человека, — принцип удовольствия и принцип реальности. Источником человеческой психики являются глубоко заложенные в человеке его влечения и желания в их взаимодействии со средой. Вся душевная жизнь направляется желанием удовольствия и отвращением к страданию. Эти влечения к удовольствию организуют установку личности, заполняя внимание, память, мысль определенным содержанием. Весь психический мир человека — это сумма его желаний и опыт борьбы за их осуществление. Но желание удовольствия сталкивается с требованиями реальной среды, к которой нужно приспособиться, и, таким образом, принцип удовольствия сталкивается с принципом реальности. От многих желаний организму приходится отказываться. Такое неосуществленное желание вытесняется в бессознательную область и там продолжает существовать в скрытом виде, прорываясь в психическую жизнь, устремляя ее по своим путям, подчиняя ее влияниям этих бессознательных вытесненных желаний. Принцип удовольствия, не достигший компромисса с принципом реальности, мстит ему созданием взамен или в дополнение к реальному миру еще и особого мира — несознанных, вытесненных, бессознательных влечений. В человеке создаются как бы не мирящиеся друг с другом две реальности: внешняя реальность осознаваемая, содержащая в себе элементы приспособления к окружающей среде, и психическая реальность, чуждая, враждебная внешней среде, загнанная последней в подполье бессознательного, но голодная, неудовлетворенная, прорывающаяся кверху. Вся психическая жизнь пронизывается яростной борьбой этих двух реальностей. Борьба сказывается в так называемой цензуре, которая искажает прорывающиеся во время ослабления сознательного состояния во сне, в рассеянности, подавленные влечения.
Высшая форма этой коллизии, этого разлада со средой, выражается в так называемом бегстве в болезнь, которую надо понимать как болезненную позицию по отношению к реальности, особую форму поведения, когда вытесненные и неудовлетворенные желания, замкнувшиеся в каком-нибудь комплексе, т. е. группе представлений, связанных с каким-нибудь аффективным переживанием, одерживают верх. Оказывается, что даже наше мышление бывает направлено по линии этих вытесненных желаний или комплексов, не говоря уже о том, что все остальные психические силы подчиняются этому закону. Оказывается, человек адресует окружающей среде лишь часть своего творческого богатства, остальное содержание сохраняет для внутреннего употребления, употребления, чуждого обязательствам, выдвигаемым этой средой. Та сумма внимания, памяти, тот материал мыслительных процессов, те качества общих и специальных способностей, то количество выносливости и гибкости, которые он выявляет перед нами в актах реального приспособления, представляют собой зачастую ничтожный клочок его творческих возможностей. Подавляющая же их часть остается от нас скрытой, закупоренной, направленной на замкнутые внутренние процессы, питая избыточное, внереальное, внетворческое возбуждение. Так происходит не только с так называемыми патологическими больными личностями, но и с совершенно нормальными людьми в виду чрезвычайной относительности самого понятия нормы в условиях сумасшедшей современной социальной среды. Врожденная структура личности и накопленные ею в течение раннего свободного детства навыки в период его дальнейшего роста оказываются в неизбежной коллизии с обязательствами окружающей реальности. Нарастает внутренняя дезорганизация, грубый раскол, резкое раздвоение личности, отдающей среде лишь то, что та насильно из нее выдавит, и большую часть своего фонда оставляющей в состоянии голодного потенциального напряжения. Фрейд полагает, что большая часть этих подавленных желаний полового происхождения. Развитие полового инстинкта он относит к самому раннему детству. При этом он, конечно, не говорит о каком-либо грубом и оформленном половом чувстве у ребенка. Речь, скорее, о зародышевых, частичных элементах, отдельных ощущениях, идущих от слизистых оболочек, от работы отдельных органов и составляющих зачатки будущего полового чувства, так называемого либидо. Оказывается, что первоначальный инстинктивный детский опыт, как и первые навыки детства, так называемое инфантильное поведение, протекает главным образом под воздействием принципа удовольствия. Забота о приспособлении к среде падает на взрослых. Именно взрослые облегчают ребенку установление первых взаимоотношений со средой. Это и накладывает особый отпечаток на инфантильное поведение раннего детского периода. Оно складывается, во-первых, из безусловных прирожденных реакций и, во-
Этим и объясняется трагическое противоречие между врожденным фондом, ранним детским опытом и позднейшими его приобретениями. Так как существует величайшее несоответствие между ранним детским опытом, возросшим на основе биолотических навыков, и средой, со всеми ее объективными требованиями, то возникает биологическая дезорганизованность человека, и переход от инфантильного поведения к поведению взрослого всегда представляет собой трагедию, которую Фрейд называет борьбой принципа удовольствия с принципом реальности. Выводы эти совпадают, как указывает А. 'Залкинд, вполне с опытами Павловской лаборатории. Здесь в экспериментальной форме воспроизводится определение детского опыта при вступлении в жизнь. Собаке подносят пахучий мясной порошок. Она отвечает на него хватательным и слюноотделительным рефлексами. Однако собаке дают порошок только в том случае, если этому предшествует какой-нибудь сигнал — световой или звуковой. Без этого собаке пищи не дают. Собака вначале рвется к порошку во всех случаях, выделяет слюну и т. д. Но в результате настойчивых повторений опыта она начинает тормозить свой основной рефлекс. Без получения разрешения, без условного сигнала, она попросту биохимически не в силах есть (нет слюны и прочих соков), не имеет аппетита, не хочет есть. Современная среда и воспитание Современная социальная среда, т. е. среда капиталистического общества, создает благодаря своей хаотической системе воздействий коренное противоречие между ранним опытом ребенка и его позднейшими формами приспособления. Поэтому организм должен усвоить какие-то формы торможения, закупорки своих желаний, и эти желания раскрываются и получают выход во сне, но не полностью, а в замаскированном виде, так как им мешает цензура. В результате создается решительное противодействие между средой и личностью. Вот как рисует А. Залкинд возникающую при этом картину: все неосуществленные влечения получают неправильное направление и оттекают к половому инстинкту, который паразитически питается за чужой счет. Хаотическая комбинация современных социальных раздражений создает грубое несоответствие между унаследованным фондом, опытом раннего детства и дальнейшими, более зрелыми психологическими накоплениями. Отсюда закупорка огромной части биопсихических сил человека, извращенное их применение при использовании социальной средой лищь ничтожной части этой энергии. Б подвале человеческой психофизиологии лежат могучие резервы, ждущие соответствующих социальных раздражений. Они обладают чрезвычайной пластичностью. Высвободить эти резервы из подвала, произвести социальное высвобождение энергии — значит произвести следующий процесс: в человеке заложены массы энергии в виде влечений, желаний, стремлений; часть энергии не получает удовлетворения из-за принципа реальности и вытесняется в бессознательное. Теперь возможны для оставшейся части три выхода. Она вступает в борьбу с сознательными формами поведения, побеждает их. мстит принципу реальности, и это есть бегство в болезнь или психоневроз. Борьба кончается вничью или, вернее, вовсе не кончается, и человек, сохраняя нормальные формы поведения, живет в постоянном длительном конфликте между средой и собой и внутри себя. Наконец, загнанная в подсознательное и вытесненная реальностью, энергия снова высвобождается, опять во имя реальности, но уже в социально полезном, творческом направлении. Среда здесь вполне торжествует, так как она не только вытеснила противоречившие ей силы, но и завладела ими снова в преображенном виде. Таким образом, этот процесс, или сублимация, и есть максимальная реализация всех наших желаний, но только в социально полезном направлении. Следовательно, это и есть та дорога, по которой должно идти воспитание. Сублимация имеет много сходного с обычными формами растормаживания рефлексов, даже не вытесненных в подсознательную сферу. Чтобы уяснить механизм действия сублимации, мы воспользуемся житейской иллюстрацией А. Залкинда. Мелкий чиновник грубо оскорблен своим начальником: раздражения подобного порядка вызывали у него всегда привычное торможение — взамен агрессивного рефлекса, который в данном случае обычно не получал должного питания, так как чиновничья среда в царском строе не создавала, конечно, благодарной почвы для формирования выявленных агрессивных рефлексов. Сумма этого заторможенного возбуждения может проявиться вовне в двух направлениях. 1) Чиновник является домой, садится обедать, какая-нибудь мелочь, небольшой беспорядок на столе его раздражают, раздражение падает на поле заторможенного возбуждения, и вдруг — резкий, грубый порыв — огромной силы агрессивный рефлекс: тарелки летят в жену, детей, кулаки стучат по столу, рев на всю квартиру (фрейдовский катарзис — взрыв, бурное излияние заторможен нот возбуждения). 2) Возможен и другой путь: заторможение остается в силе, дальнейшие оскорбления начальника поддерживают, питают, конденсируют его. Но наряду с этим появляются и новые раздражители: революционная манифестация по городу, подпольная прокламация, призывающая к борьбе с «начальниками» вообще, даются указания о методах этой борьбы, длительной, настойчивой, организованной. Агрессивный рефлекс освобождается, но не в бурной, а в организованной форме, длительно развертываясь, превращаясь в настойчивую, подпольную революционную работу. Агрессивный рефлекс организуется, сублимируется: рефлекс низшего порядка превращается путем куммуляции (нарастания) вокруг него возбуждения, путем длительного его торможения и медленного его 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
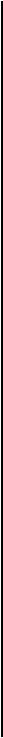
 В этом смысле труд раскрывается со своей едва ли не самой ценной психологической стороны: с той, которой он обращен к практике. Чрезвычайно показательно, что в европейской философии последних десятилетий в том или ином виде принцип практики выдвигался самыми различными направлениями как единственная возможность построения научного знания. И в самом деле, практика является той высшей проверкой, которой подвергается каждая научная дисциплина, и выражение Маркса, что философы довольно объясняли мир, теперь надо подумать о том, чтобы его переделать всецело покрывает истинную историю науки.
В этом смысле труд раскрывается со своей едва ли не самой ценной психологической стороны: с той, которой он обращен к практике. Чрезвычайно показательно, что в европейской философии последних десятилетий в том или ином виде принцип практики выдвигался самыми различными направлениями как единственная возможность построения научного знания. И в самом деле, практика является той высшей проверкой, которой подвергается каждая научная дисциплина, и выражение Маркса, что философы довольно объясняли мир, теперь надо подумать о том, чтобы его переделать всецело покрывает истинную историю науки.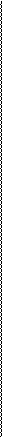
 старой формулой, которая давно выдвинута психологией и гласит, что каждый должен знать что-нибудь обо всем и все о чем-нибудь. Каждый должен знать что-нибудь обо всем — это значит, что самые элементарные и общие представления о главнейших элементах мирового целого должны лежать в основе образования каждого человека. Все о чем-нибудь требует от нашего образования собрать все решительно знания одной какой-нибудь области, непосредственно связанной с нашей работой.
старой формулой, которая давно выдвинута психологией и гласит, что каждый должен знать что-нибудь обо всем и все о чем-нибудь. Каждый должен знать что-нибудь обо всем — это значит, что самые элементарные и общие представления о главнейших элементах мирового целого должны лежать в основе образования каждого человека. Все о чем-нибудь требует от нашего образования собрать все решительно знания одной какой-нибудь области, непосредственно связанной с нашей работой. вторых, из самых близких к ним условных рефлексов первых степеней.
вторых, из самых близких к ним условных рефлексов первых степеней.