
|
|
Главное различие языков с точки зрения чистоты принципа их образования30. Как я уже не раз говорил выше, язык всегда обладает лишь идеальным бытием в головах и душах людей и никогда — материальным, даже будучи начертан на камне или бронзе, причем даже сила умершего языка целиком зависит от нашей способности возродить его, если только мы вообще еще способны его почувствовать. Поэтому в языке, как в непрестанном горении человеческой мысли, не может быть ни минуты покоя, ни мгновения полной остановки. По своей природе он представляет собой устремленное вперед развитие, движимое духовной силой каждого говорящего. В этом процессе естественным образом выделяются два периода, которые надо четко разграничивать: один — когда звукотворческий порыв языка еще нарастает и кипит деятельной жизнью, другой — когда после окончательного образования по крайней мере внешней языковой формы наступает кажущаяся остановка и начинается видимое угасание первого чувственного творческого порыва. Конечно, даже в период такого угасания, как я впоследствии покажу подробнее, могут возникнуть новые жизненные начала и произойти новые и успешные преобразования языка. В ходе своего развития все языки испытывают одновременное воздействие двух факторов, взаимно ограничивающих друг друга:» это, с одной стороны, начало (Princip) языка, самобытно определяющее его направленность, а с другой — влияние накопленного материала, власть которого находится в обратно пропорциональном отношении к определяющей силе начала. Что такое начало действует " в недрах каждого языка, сомневаться не приходится. В самом деле, всякий раз, когда нация — или вообще сила человеческой мысли — усваивает те или иные элементы языка, она даже непроизвольно, без отчетливого осознания того, что сама делает, должна сочетать их в единство; и без этого акта было бы невозможно ни мышление посредством языка в индивиде, ни взаимопонимание между индивидами. Именно это пришлось бы принять в качестве предпосылки, если бы нам удалось подняться к первым истокам языка. Но указанное единство может существовать лишь как единство какого-то одного преобладающего начала, исключающего все прочие. Если это начало настолько сближается со всеобщим языкотворческим началом в человеке, насколько допускает его неизбежная индивидуализация, и если оно в полноте неподорванной силы пронизывает собою язык, то в этом последнем на всех стадиях его развития на место иссякающей силы будет всегда заступать новая, соответствующая очередному отрезку его исторического пути. Ибо неотъемлемая черта всякого интеллектуального развития в том, что его энергия, собственно, никогда не умирает, а лишь изменяется в своих функциях или заменяет то или иное из своих орудий другим. И наоборот, если чистота первого начала затемняется чем-то таким, что не укоренено с необходимостью в языковой форме, если это начало не пронизывает собою всю звуковую систему языка или если оно сталкивается в некоторых случаях с недостаточно органичным материалом, что увеличивает неправильность в других, и без того искаженных, частях, то на пути естественного развития встает мощная чужеродная преграда, и язык уже не может, как должно было бы происходить при правильном развитии интеллектуальных сил, черпать новую энергию в самом продолжении своего движения. В верности своему началу, как и в деятельности обозначения всевозможных мыслительных связей, языку нужна свобода, и можно считать надежным признаком наиболее чистого и удавшегося языкового строя, если на образование слов и словосочетаний не накладывается иных рамок, кроме необходимых для сочетания свободы с закономерностью, то есть для сохранения, через ограничение, самого существования свободы. Правильное развитие языка на-ходится в естественной гармонии с правильным развитием.интеллектуальной способности как таковой. В самом деле, если язык пробуждается в человеке потребностью мысли, то все вытекающее из чистой идеи языка должно в свою очередь обязательно способствовать успешному движению мысли. Если по каким-либо посто-ронним причинам народ, обладающий совершенным языком, погрузится в духовную косность и слабость, то вырваться из этого состояния с помощью все того же своего языка ему будет легче. И наоборот: интеллектуальной силе придется искать точку опоры для нового взлета в себе, если в ее распоряжении окажется язык, отклонившийся от правильного и естественного пути развития. Она начнет тогда в самой себе черпать средства для воздействия на язык — конечно, не создавая его, потому что всякое творчество в области языка может быть только плодом его собственного жизненного импульса, но встраиваясь в него, осмысливая его формы и обеспечивая им такое употребление, какое самим языком не предполагалось и к какому сам по себе он бы не привел. Мы можем теперь среди всего бесконечного многообразия существующих и мертвых языков провести разграничение, решающе важное с точки зрения прогрессивного развития человеческого рода, а именно — разграничение между языками, мощно, с закономерной свободой и последовательно развернувшимися из чистого начала, и теми, которые не могут похвалиться подобным достижением. Первые — удавшиеся плоды языкотворческого порыва, с буйной силой прокладывающего себе многообразные пути внутри единой истории человечества. Вторые обладают неправильной формой, в которой Дают о себе знать две вещи: недостаточная сила языкового чувства, всегда присущего исконной и чистой человеческой природе, и однобокое, искаженное посторонним влиянием псевдообразование, когда на звуковую форму, не вытекающую с необходимостью из требований языка, накладываются еще и другие, искусственно заимствованные им. Проведенные выше разыскания дают нам путеводную нить, помо-гающую выявлять и в простой форме описывать все эти черты в
Если мне действительно удалось описать флективный метод во всей его полноте, показав, что только он придает слову подлинную, как смысловую, так и фонетическую внутреннюю устойчивость, и вместе с тем надежно расставляет по своим местам части предложения, как того требуют мыслительные связи, то не остается сомне-ний, что лишь этот метод хранит в себе чистый принцип языкового строя. Поскольку каждый элемент речи берется здесь в его двоякой функции, в его предметном значении и в его субъективном отношении к мысли и к языку, причем обе эти стороны обозначаются сообразно своему удельному весу, с помощью специально предназначенных для них фонетических форм, постольку самобытнейшее существо языка, его членораздельность и символичность, достигает высших ступеней совершенства. Теперь остается только спросить, в каких языках этот метод реализуется с наибольшей последовательностью, полнотой и свободой. Возможно, что вершины здесь не достиг ни один из реальных языков. Но мы видели выше различие в степени приближения к идеалу между санскритскими и семитскими языками: вторые обладают флексией в ее наиболее истинном и неподдельном виде и в сочетании с изощреннейшей символизацией, однако флективный принцип не проведен тут по всем частям языка и стеснен в своем действии более или менее случайными законами, невозможностью иметь в словоформе более двух слогов, применением только гласных для обозначения флексии, боязнью сложных слов; первые достигают посредством флексии такой прочности словесного единства, какая освобождает их от всяких подозрений в агглютинативности, и проводят флективный принцип по всем частям языка, предоставляя ему высшую свободу действия. В сравнении с инкорпорированием и с приемом нанизывания слов, лишенных внутри себя подлинного единства, флективный ме- | тод предстает гениальным началом, порождением верной языковой интуиции. В самом деле, пока инкорпорирующие и изолирующие языки мучительно силятся соединить разрозненные элементы в предложение или же сразу представить предложение связным и цельным, флективный язык непосредственно маркирует (stempelt) .| каждый элемент языка сообразно выражаемой им части внутри смыслового целого и по самой своей природе не допускает, чтобы эта отнесенность к цельной мысли была отделена в речи от отдельного слова. Слабость языкотворческого порыва в языках, подобных китайскому, не позволяет флексии получить фонетическое воплощение, а в языках, применяющих только метод инкорпорирования, не допускает ее до свободного и безраздельного господства. Впрочем, действию чистого принципа может мешать и искажающая односторонность развития, когда отдельное образование — например, глагол со всеми определяющими его модифицирующими префиксами в малайском — усиливается вплоть до пренебрежения всеми остальными формами. Сколь бы разнообразными ни были отклонения от чистого принципа, всегда есть возможность охарактеризовать каждый язык смотря по тому, насколько в нем явно либо отсутствие обозначений связи между частями предложения, либо стремление ввести такие обозначения и поднять их до статуса флексии, либо довольствование таким вспомогательным средством, как придание формы слова тому, чему в речи следовало бы выступать целым предложением. Степенью смешения этих трех начал определяется сущность каждого языка. Но, как правило, их взаимодействие ведет к образованию какой-то еще более индивидуальной формы. В самом деле, где из-за недостаточной силы определяющего начала утрачивается подлинное равновесие, там одна часть языка легко достигает неправомерного и непропорционального перевеса над другими. Из-за этого и других обстоятельств отдельные находки могут быть присущи и тем языкам; которые в других отношениях нельзя признать исключительно удобными орудиями мысли. Невозможно отрицать, что китайский язык древнего стиля за счет того, что в нем непосредственно следуют друг за другом важные и весомые понятия, звучит с покоряющим достоинством и, как бы отбрасывая все побочные ме-лочи и порываясь к чистому полету мысли, достигает благородного величия. Собственно малайский язык справедливо славится подвижностью и крайней простотой своих словосочетаний. Семитские языки обладают поразительным искусством в тонком различении смысла посредством многообразных чередований гласных. Баскскому языку в структуре слова и в словосочетании присуща замечательная сила, проистекающая от краткости и смелости выражения. Язык делаварских индейцев, а также некоторые американские языки с одним-единственным словом связывают такое число понятий, что для выражения их нам понадобилось бы несколько слов. Но все эти примеры показывают только, что, по какому бы одностороннему пути ни направился человеческий дух, он всегда может произвести нечто великое и способное в свою очередь оказывать на него самое плодотворное и вдохновляющее воздействие. Все перечисленные нами частности не позволяют говорить о пре- имуществе тех или других языков. Истинное преимущество языка заключается только в том, что, развиваясь из чистого начала и с необходимой свободой, он приобретает способность поддерживать энергическую деятельность всех интеллектуальных сил человека, служить их полноценным орудием и благодаря хранимой им образно-чувственной полноте и духовной законосообразности вечно заново пробуждать эти силы. К этому формальному свойству и сводится все, чем язык может благотворно воздействовать на дух. Язык — русло, по которому дух может катить свои волны в надежной уве-
ренности, что питающие его источники никогда не иссякнут. Поистине дух веет над ним, как над бездонной глубиной, из которой, однако, дух всегда может почерпнуть тем больше, чем больше он оттуда уже впитал. Таким образом, прилагать этот формальный критерий к языкам можно только тогда, когда мы пытаемся в общих чертах сравнивать их между собой. Характер языков 31. Грамматическим строем, который мы до сих пор рассматривали в общем и целом, и внешней структурой (Struktur) сущность языка, однако, еще далеко не исчерпывается; его более своеобразный и подлинный характер покоится на чем-то гораздо более тонком, сокровенном и менее доступном для анализа. Конечно, то, что мы, преимущественно рассматривали выше, остается необходимой устойчивой основой, на которую может опираться все более тонкое и высокое. Чтобы яснее описать то, что здесь происходит, бросим еще один ретроспективный взгляд на всеобщий процесс языкового развития. В период создания фонетических форм народы увлечены больше языком, чем его задачей, то есть тем, что им надлежит обозначить. Они целиком поглощены изобретением способов выражения мысли, и стремление обогатись эти последние, в соединении с воодушевлением от успехов, подстегивает и питает их творческую силу. Если можно позволить себе такое сравнение, язык возникает подобно тому, как в физической природе кристалл примыкает к кристаллу. Кристаллизация идет постепенно, но повинуясь единому закону. Эта первоначально преобладающая сосредоточенность на языке как на живом порождении духа совершенно естественна; между прочим, ее можно проследить и в конкретных языках, которые обладают тем большим богатством форм, чем они изначальнее. Изобилие форм в некоторых языках явно превышает потребности: мысли и входит затем в меру при изменениях, которые происходят параллельно внутри языков одного и того же семейства под влиянием обогащающейся духовной культуры. Когда такая кристалли-' зация заканчивается, языки как бы достигают зрелости. Инструмент изготовлен, и дело духа теперь — освоить и применить его. Это и происходит. И вот в соответствии с индивидуальной неповторимостью того способа, каким дух выражает себя через язык, последний получает окраску и характер. Впрочем, будет большой ошибкой считать то, что мы в целях отчетливости различения резко отграничили здесь друг от друга, столь же раздельным и в природе вещей. Продолжающаяся работа духа, применяющего язык, не перестает оказывать определенное устойчивое влияние также и на структуру языка как таковую, и, на устройство его форм, только влияние это уже неуловимее и временами ускользает от наблюдения. Кроме того, ни одну эпоху в истории человечества или отдельного народа нельзя считать посвященной исключительно и специально развитию языка. Язык образуется речью (Die Sprache wird durch Sprechen gebildet), a речь — выражение мысли или чувства. Образ мысли и мироощущение народа, придающие, как я только что сказал, окраску и характер его языку, с самого начала воздействуют на этот последний. С другой стороны, чем больше продвинулся язык в формировании своей грамматической структуры, тем, естественно, меньше остается случаев, когда в ней нужно было бы что-то решать заново. Увлеченность способами выражения мысли ослабевает, и чем больше дух опирается на уже созданное, тем больше коснеет его творческий порыв, а с ним и его творческая сила. К тому же накапливается множество фонетически оформившегося материала, и эта внешняя масса, в свою очередь воздействующая на наш дух, требует соблюдения своих собственных законов и мешает свободному и самостоятельному действию ума (Intelligenz). Два эти фактора составляют то, что в вышеупомянутом различении принадлежит не субъективному взгляду, а реальной сути дела. Итак, чтобы лучше проследить за переплетением духа с языком, мы опять же должны отличать грамматический и лексический строй как нечто устойчивое и внешнее от внутреннего характера, который живет в языке, как душа живет в теле, и придает ему то яркое своеобразие, которое захватывает нас, едва мы начинаем его осваивать. Этим мы вовсе не хотим сказать, что то же своеобразие не присуще внешнему строю. Индивидуальная жизнь языка распространяется на все его разветвления, пронизывает все фонетические элементы. Надо только всегда помнить, что царство форм — не единственная область, которую предстоит осмыслить языковеду; он не должен по крайней мере упускать из виду, что в языке есть нечто еще более высокое и самобытное, что надо хотя бы чувствовать, если невозможно познать. Всего легче сказанное здесь подкрепить примером отдельных языков из какой-нибудь обширной и широко разветвившейся языковой семьи. Санскрит, греческий и латынь имеют близкородственную и во многих отношениях сходную организацию словообразования и синтаксиса. Однако всякий почувствует различие в их индивидуальном характере, который вовсе не сводится просто к характеру нации, насколько этот последний проявляется в языке, но коренится в глубине самих языков и определяет строение каждого. Поэтому я еще немного задержусь на различии между началом, из которого, согласно вышеописанному, развертывается структура языка, и особенным характером последнего; я льщу себя надеждой недвусмысленно показать, что этому различию, с одной стороны, Нельзя придавать слишком большого значения, а с другой — что его нельзя сбрасывать со счета как чисто субъективное. Чтобы тщательней рассмотреть характер языков в том смысле, в каком мы противопоставляем его структуре языков, мы должны осмыслить их состояние после завершения их постройки. Удивление и восторг перед самим по себе языком как вечно новым порождением текущего мига постепенно убывает. Деятельность нации переключается с языка на его употребление, и он спутником самобытного народного духа вступает на историческую дорогу, причем ни
И вот на помощь этим творцам, придающим языку его живой облик, приходят грамматисты и наносят последний штрих на завершенную картину языка. Творить — не их задача; их усилиями невозможно внедрить в язык народа ни флексию, ни правила слияния конечных звуков с начальными, если всего этого не было с самого начала. Но они отбрасывают лишнее, обобщают, устраняют нерегулярности и заполняют пробелы. Есть все основания приписывать им разработку схемы спряжений и склонений во флективных языках, поскольку они первыми привели в ясную систему относящиеся сюда случаи словоупотребления. В этой сфере грамматисты становятся законодателями, хотя сами черпают свои знания из неиссякаемой сок- ровищницы лежащего перед ними языка. Поскольку они действительно первыми доводят до сознания говорящих идею подобных схем, постольку к формам, утратившим всякий отчетливый смысл, теперь снова может возвращаться значение просто благодаря тому, что они занимают определенное место внутри схемы. Подобные обработки одного и того же языка могут в различные эпохи следовать друг за другом; но чтобы язык оставался вместе и народным, и высокораз-витым, никогда не должна прерываться правильная его циркуляция от народа к писателям и к грамматистам, а от них — снова к народу. Пока дух народа с его живой самобытностью продолжает и действовать сам, и воздействовать на язык, этот последний совершенствуется и обогащается, что в свою очередь вдохновляюще влияет на дух. Но и тут с течением времени может наступить эпоха, когда язык как бы перерастает своего спутника, и дух в каком-то изнеможении ведет все более пустую, все менее творческую игру со словесными оборотами и формами, возникшими некогда в ходе подлинно осмысленного употребления языка. Это период второго истощения языка, если первым считать угасание его собственного' порыва к созданию внешних форм. При этом вторичном истощении блекнет яркость характера; однако гений отдельных великих людей снова может пробудить языки и нации и вырвать их из спячки. Свой характер язык развивает преимущественно в литературные эпохи и в предшествующие им подготовительные периоды. В самом деле, он начинает тогда подниматься над обыденностью материальной жизни и восходить к развертыванию чистой мысли и свободе изображения. Вообще говоря, представляется удивительным, что языки, помимо своеобразия внешнего организма, должны иметь еще какой-то самобытный характер, коль скоро назначение любого языка — служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей. В самом деле, не говоря уже о различиях между полами и по-колениями, нация, говорящая на одном языке, включает в себя все нюансы человеческой самобытности. Даже люди одного направления ума, занимающиеся одинаковым делом, различаются в своем понимании дела и в том, как они переживают на себе его влияние. Различия еще больше усиливаются, если дело касается языка, потому что он проникает в сокровеннейшие тайники духа и сердца. Но каждый индивид употребляет его для выражения именно своей неповторимой самобытности — недаром речь всегда исходит от индивида и каждый пользуется языком прежде всего только для самого себя. Несмотря на это, язык устраивает каждого — насколько вообще слово, всегда в чем-то несовершенное, способно отвечать порыву задушевного чувства, которое ищет себе выражения. Нельзя утверждать и того, что язык как орудие, принадлежащее всем, сглаживает индивидуальные различия. Конечно, он перебрасывает мосты от одной индивидуальности к другой и опосредует взаимопонимание; но различия он, скорее, увеличивает, потому что, уточняя и оттачивая понятия, яснее доводит до сознания, сколь глубоко индивидуальные особенности коренятся в изначальном духовном укладе. Таким образом, способность служить средством выражения для столь различных индивидуальностей должна была бы на первый взгляд предполагать полное отсутствие характера в языке, и, однако, в этом его как раз никоим образом нельзя упрекнуть. Он поистине соединяет в себе оба противоположных свойства: в качестве единого языка дробится внутри одной и той же нации на бесконечное множество языков, а в качестве этого множества сохраняет единство, придающее ему определенный отличительный характер по сравнению с языками других наций. Насколько по-разному все понимают и употребляют один и тот же родной язык, можно видеть-хотя это ясно показывает уже обычная повседневная жизнь,— сравнивая между собой выдающихся писателей, из которых каждый создает для себя свой собственный язык. Но различие характера разных языков все равно обнаруживается с первого взгляда, как, например, при сравнении санскрита с греческим и с латынью. Разобрав подробнее, как язык сочетает в себе эти противопо-ложности, мы поймем, что способность служить орудием для разнообразнейших индивидуальностей заключена в глубочайшем существе его природы. Его элемент — слово,— на котором мы можем пока остановиться ради упрощения, не несет в себе чего-то уже готового, подобного субстанции, и не служит оболочкой для законченного понятия, но просто побуждает слушающего образовать понятие собственными силами, определяя лишь, как это сделать. Люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки пред-
Вместе с тем все индивидуальности, входящие в данную нацию, объединены между собой национальной общностью, которая в свою очередь отличает каждую отдельную систему мировосприятия от подобной же системы другого народа. Из этой общности и из особенного, в каждом языке своего, внутреннего стремления складывается характер языка. Каждый язык вбирает в себя нечто от конкретного своеобразия своей нации и в свою очередь действует на нее в том же направлении. Национальный характер поддерживается, упрочивается, даже до известной степени создается общностью ме-. ста обитания и занятий, но в своем существе покоится на одинаковости природного уклада, обычно объясняемой общностью происхождения. А за врожденным различием укладов кроется, конечно, непроницаемая тайна того бесконечно разнообразного соединения телесной материи с духовной силой, которое составляет существо всякой человеческой индивидуальности. Можно лишь задаться вопросом, не существует ли еще и какого-то другого способа объяснить одинаковость природного уклада. И при ответе на этот вопрос никоим образом нельзя исключить возможность влияния языка. В самом деле, соединение звука со своим значением в языке так же непостижимо, как связь тела с духом, источник всякого своеобразия природного уклада. Можно сколь угодно дробить понятия, расчленять слова, но мы от этого еще ни на шаг не приблизимся к разгадке таинственного соединения мысли со словом. Итак, в своем исконном отношении к существу индивидуальности основа национальной самобытности и язык непосредственно подобны друг другу. Только влияние последнего явственней и сильней, так что нам боль- шей частью именно на нем приходится строить понятие нации. Поскольку развитие в человеке его человеческой природы зависит от развития языка, этим последним непосредственно и определяется понятие нации как человеческого сообщества, идущего в образовании языка своим неповторимым путем. Но язык обладает также и силой обосабливать и соединять народы, сам по себе придавая единый национальный характер человеческим общностям, даже когда они по своему происхождению ге-терогенны. С этой точки зрения особенно отличается семья от нации. Между членами первой есть фактически устанавливаемое родство; одна и та же семья может продолжать свое существование, живя среди двух разных народов. В отношении наций вопрос может еще казаться неясным, но в отношении широко расселившихся групп народов всегда приходится различать, все ли говорящие на одном языке имеют общее национальное происхождение или их гомогенность сложилась на почве общности самых первичных природных задатков в дополнение к общности территории, по которой они расселились, и к единообразию испытываемых ими внешних влияний. Впрочем, какое бы отношение единство нации ни имело к непостижимым для нас первопричинам, несомненно то, что лишь с развитием языка национальные различия впервые переходят в более светлую область духа. Благодаря языку они проникают в сознание и в лице языка получают предметную сферу, в которой не могут не запечатлеться, которая более доступна отчетливому осознанию и в которой сами различия выступают более отточенными и развившимися до более четкой определенности. В самом деле, по мере того как язык поднимает человека до доступной ему ступени интеллектуальности, сумрачная область неразвитого чувства все больше светлеет. Сами языки, явившиеся инструментами этого развития, приобретают настолько определенный характер, что по ним становится легче узнать характер нации, чем по ее нравам, обычаям и деяниям. Вот почему, если народы не имеют литературы и мы поэтому не можем достаточно глубоко вникнуть в их словоупотребление, они часто кажутся нам однообразнее, чем они есть на самом деле. Мы не распознаём отличительных черт, потому что нет посредника, который преподнес бы их нам и позволил бы их разглядеть. Отделяя характер языков от их внешней формы, без которой невозможно представить себе конкретный язык, и противопоставляя характер форме, мы обнаруживаем, что первый заключается в способе соединения мысли со звуками. Взятый в этом смысле, он подобен духу, который вселяется в язык и одушевляет его, как из него же, духа, сотканное тело. Характер — естественное следствие непрекращающегося воздействия, которое оказывает на язык духовное своеобразие нации. Воспринимая общие значения слов всегда одним и тем же индивидуально-неповторимым образом, сопровождая их одинаковыми ощущениями и обертонами смысла, следуя одной и той же направленности при связи идей, пользуясь именно той степенью свободы при построении речи, какую допускает интеллек-
кового, филология исходит главным образом из сохранившихся памятников, стремится собрать и зафиксировать их со всей возможной строгостью и точностью и использовать для получения надежных сведений об античности. Сколь бы тесной ни оставалась неизбежная связь между анализом языка,' установлением его родства с другими языками, между достигаемым лишь на этом пути прояснением его строя, с одной стороны, и обработкой памятников его письменности — с другой, это все же два разных направления в изучении языка, они требуют от исследователя разных дарований и сами по себе ведут к разным результатам. Не было бы, пожалуй, никакой ошибки в том, чтобы отличать таким образом лингвистику от филологии, придавая этой последней тот более узкий смысл, который обычно связывали с нею до сих пор, но который в самое последнее время, особенно во Франции и Англии, начали распространять на всякие занятия какими бы то ни было языками. Несомненно по крайней мере то, что исследование языка, о котором идет речь у нас, не может не опираться на подлинно филологическую обработку памятников в указанном здесь смысле. По мере того как великие люди, прославившие за последние десятилетия эту область, с добросовестной точностью и вплоть до мельчайших фонетических вариантов устанавливают словоупотребление каждого писателя, изучаемый язык все яснее обнаруживает свою зависимость от господствующего влияния духовной индивидуальности и позволяет рассмотреть эту зависимость, что дает возможность выяснять заодно и конкретные пути, по которым шло такое влияние. Мы вместе с тем узнаём, что принадлежит эпохе, что — местности, что — индивиду и как общий для всех язык охватывает собою все эти различия. Причем изучению частностей всегда сопутствует ощущение цельности, и анализ ничуть не лишает явление его своеобразия. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|

 реальных языках, какою бы хаотической мешаниной частностей ни представлялись они на первый взгляд. В самом деле, мы попытались показать, как обстоит дело с высшими принципами в том, что касается языка, и тем самым наметить цели, к которым должен восходить языковой анализ. Хотя на этом пути многое еще можно прояснять и уточнять, понятно все же, что в каждом языке есть возможность отыскать единую форму, из которой вытекает своеобразие его строя, и что все вышеизложенное может служить мерилом достоинств языка и его недостатков.
реальных языках, какою бы хаотической мешаниной частностей ни представлялись они на первый взгляд. В самом деле, мы попытались показать, как обстоит дело с высшими принципами в том, что касается языка, и тем самым наметить цели, к которым должен восходить языковой анализ. Хотя на этом пути многое еще можно прояснять и уточнять, понятно все же, что в каждом языке есть возможность отыскать единую форму, из которой вытекает своеобразие его строя, и что все вышеизложенное может служить мерилом достоинств языка и его недостатков. язык, ни дух нельзя назвать независимыми друг от друга, но каждая из этих двух взаимно дополняющих друг Друга сил опирается на помощь и воодушевляющую поддержку другой. Восторг и радость вызывают теперь только отдельные удачные выражения. Песни, молитвенные формулы, изречения, сказки пробуждают желание выхватить слово из летучего потока диалога; их сохраняют, переиначивают, им подражают. Они становятся основой литературы, и тогда этот продукт духа и языка постепенно переходит от всей нации к индивидам; язык препоручается поэтам и наставникам народа, которых народ начинает все больше противопоставлять себе. В результате язык как бы раздваивается, причем, пока противоположность между литературным и народным стилем сохраняет правильные пропорции, оба остаются взаимно восполняющимися источниками мощи и чистоты языка.
язык, ни дух нельзя назвать независимыми друг от друга, но каждая из этих двух взаимно дополняющих друг Друга сил опирается на помощь и воодушевляющую поддержку другой. Восторг и радость вызывают теперь только отдельные удачные выражения. Песни, молитвенные формулы, изречения, сказки пробуждают желание выхватить слово из летучего потока диалога; их сохраняют, переиначивают, им подражают. Они становятся основой литературы, и тогда этот продукт духа и языка постепенно переходит от всей нации к индивидам; язык препоручается поэтам и наставникам народа, которых народ начинает все больше противопоставлять себе. В результате язык как бы раздваивается, причем, пока противоположность между литературным и народным стилем сохраняет правильные пропорции, оба остаются взаимно восполняющимися источниками мощи и чистоты языка.
 метов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова. Называя обычнейший предмет, например лошадь, они имеют в виду одно и то же животное, но каждый вкладывает в слово свое представление — более чувственное или более рассудочное, более живое, образное или более близкое к мертвому обозначению и т. д. Недаром в период словотворчества в некоторых языках возникает множество обозначений одного и того же предмета: сколько обозначений, столько и свойств, через которые осмысливается пред-мет и выражение которых можно поставить на место предмета. С другой стороны, когда вышеописанным образом затронуто звено в цепи представлений, задета клавиша духовного инструмента, все целое вибрирует, и вместе с понятием, всплывающим в душе, согласно звучит все соседствующее с этим отдельным звеном, вплоть до самого далекого окружения. Представление, пробуждаемое словом у разных людей, несет на себе печать индивидуального своеобразия, но все обозначают его одним и тем же звуком.
метов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы. Лишь в этих пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова. Называя обычнейший предмет, например лошадь, они имеют в виду одно и то же животное, но каждый вкладывает в слово свое представление — более чувственное или более рассудочное, более живое, образное или более близкое к мертвому обозначению и т. д. Недаром в период словотворчества в некоторых языках возникает множество обозначений одного и того же предмета: сколько обозначений, столько и свойств, через которые осмысливается пред-мет и выражение которых можно поставить на место предмета. С другой стороны, когда вышеописанным образом затронуто звено в цепи представлений, задета клавиша духовного инструмента, все целое вибрирует, и вместе с понятием, всплывающим в душе, согласно звучит все соседствующее с этим отдельным звеном, вплоть до самого далекого окружения. Представление, пробуждаемое словом у разных людей, несет на себе печать индивидуального своеобразия, но все обозначают его одним и тем же звуком.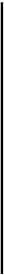 туальная смелость народного ума, соразмеренная с его способностью понимания, нация постепенно придает языку своеобразную окраску, особенный оттенок, а язык закрепляет в себе эти черты и начинает в том же смысле воздействовать на народную жизнь. Поэтому, отправляясь от любого языка, можно делать заключения о национальном характере. Языки нецивилизованных и мало развившихся народов тоже несут в себе эти следы, что позволяет нередко наблюдать такую интеллектуальную самобытность, какой на этой докультурной ступени, казалось бы, нельзя было ожидать. Языки американских аборигенов богаты примерами такого рода — смелыми метафорами, верными, но неожиданными сближениями понятий, случая-ми, когда неодушевленные предметы благодаря глубокомысленному пониманию их существа, переработанного во- " ображением, переводятся в разряд одушевленных, и т. д. Грамматика этих языков различает не род, а неодушевленность и одушевленность предметов, понимая ее в самом широком смысле, и из применения этой грамматической категории можно уяснить себе взгляды народов на такие предметы. Например, они помещают небесные тела в один грамматический класс с людьми и животными, явно видя в небесных светилах самодвижущиеся существа, наделенные личностным началом и, возможно, управляющие со своей высоты человеческими судьбами. В этом смысле изучение словарей наречий таких народов доставляет особенное удовольствие и наводит на самые разнообразные размышления; а если к тому же вспомнить, что тщательный анализ форм подобных языков, как мы видели выше, позволяет разглядеть духовный организм, из которого возникает их строение, то языковедческое исследование навсегда перестанет казаться чем-то сухим и прозаическим. В каждой своей части оно приводит нас к внутреннему духовному складу, который на протяжении всех эпох человечества остается носителем глубочайших прозрений, высшего идейного богатства и благороднейших чувств. Впрочем, для народов, чьи самобытные черты мы можем устанавливать лишь по отдельным элементам их языка, редко удается или даже вообще не удается набросать связную картину их духовного склада. Поскольку это и вообще трудное дело, по-настоящему за него браться можно только там, где нации отразили свое миросозерцание в более или менее обширной литературе и оно запечатлелось в языке так, как это возможно лишь в контексте связной речи. Ведь даже со стороны значения своих отдельных элементов, не говоря уже о нюансах, появляющихся при их сочетаниях, не сводимых непосредственно к грамматическим правилам, речь содержит бесконечно много такого, что при расчленении ее на элементы улетучивается без следа. Как правило, слово получает свой полный смысл только внутри сочетания, в котором оно выступает. Поэтому языковедческое исследование вышеописанного рода требует критически строгого анализа имеющихся в языке письменных памятников; и оно находит образцово подготовленный материал в филологически обработанных текстах греческих и латинских писателей. Хотя и здесь высшей целью остается изучение всего языка как та-
туальная смелость народного ума, соразмеренная с его способностью понимания, нация постепенно придает языку своеобразную окраску, особенный оттенок, а язык закрепляет в себе эти черты и начинает в том же смысле воздействовать на народную жизнь. Поэтому, отправляясь от любого языка, можно делать заключения о национальном характере. Языки нецивилизованных и мало развившихся народов тоже несут в себе эти следы, что позволяет нередко наблюдать такую интеллектуальную самобытность, какой на этой докультурной ступени, казалось бы, нельзя было ожидать. Языки американских аборигенов богаты примерами такого рода — смелыми метафорами, верными, но неожиданными сближениями понятий, случая-ми, когда неодушевленные предметы благодаря глубокомысленному пониманию их существа, переработанного во- " ображением, переводятся в разряд одушевленных, и т. д. Грамматика этих языков различает не род, а неодушевленность и одушевленность предметов, понимая ее в самом широком смысле, и из применения этой грамматической категории можно уяснить себе взгляды народов на такие предметы. Например, они помещают небесные тела в один грамматический класс с людьми и животными, явно видя в небесных светилах самодвижущиеся существа, наделенные личностным началом и, возможно, управляющие со своей высоты человеческими судьбами. В этом смысле изучение словарей наречий таких народов доставляет особенное удовольствие и наводит на самые разнообразные размышления; а если к тому же вспомнить, что тщательный анализ форм подобных языков, как мы видели выше, позволяет разглядеть духовный организм, из которого возникает их строение, то языковедческое исследование навсегда перестанет казаться чем-то сухим и прозаическим. В каждой своей части оно приводит нас к внутреннему духовному складу, который на протяжении всех эпох человечества остается носителем глубочайших прозрений, высшего идейного богатства и благороднейших чувств. Впрочем, для народов, чьи самобытные черты мы можем устанавливать лишь по отдельным элементам их языка, редко удается или даже вообще не удается набросать связную картину их духовного склада. Поскольку это и вообще трудное дело, по-настоящему за него браться можно только там, где нации отразили свое миросозерцание в более или менее обширной литературе и оно запечатлелось в языке так, как это возможно лишь в контексте связной речи. Ведь даже со стороны значения своих отдельных элементов, не говоря уже о нюансах, появляющихся при их сочетаниях, не сводимых непосредственно к грамматическим правилам, речь содержит бесконечно много такого, что при расчленении ее на элементы улетучивается без следа. Как правило, слово получает свой полный смысл только внутри сочетания, в котором оно выступает. Поэтому языковедческое исследование вышеописанного рода требует критически строгого анализа имеющихся в языке письменных памятников; и оно находит образцово подготовленный материал в филологически обработанных текстах греческих и латинских писателей. Хотя и здесь высшей целью остается изучение всего языка как та-