
|
|
Свойства и происхождение менее совершенного языкового строения 1 глава36. Пути, отходящие в сторону от единственного, предписанного полностью закономерной необходимостью, могут быть бесконечно разнообразными. Поэтому языки, идущие этими путями, не могут быть подвержены исчерпывающей классификации; в лучшем случае их можно сопоставлять по сходствам в главнейших особенностях их строения. Но если верно, что естественное строение, с одной стороны, зависит от прочного словесного единства, а с другой стороны — от надлежащего разделения членов предложения, то все языки, о которых мы здесь говорим, должны ущемлять либо сло-1 весное единство, либо свободу соединения мыслей либо же совмещать оба эти недостатка. Это соображение даже при сравнении са-; мых разнообразных языков позволяет найти общий масштаб их-| отношений к духовному развитию. Со специфическими, трудностями связан поиск причин такого рода отклонений от естественного пути. | Их нужно искать в области понятий; однако наблюдаемые отклоне-ния вызваны к жизни частными факторами, о которых — при той] тьме, которая окружает раннюю историю любого языка,— могут| быть высказаны лишь гипотетические предположения. Правда,! там, где несовершенство организма заключается лишь в том, что внутреннее языковое сознание оказалось не в состоянии повсемест-| но обеспечить себе чувственное звуковое выражение, такого рода трудности менее значительны, поскольку в подобном случае на несовершенства лежит в самой описанной слабости. Но такие простые случаи редко встречаются и имеются другие, как раз наиболее примечательные, которые вовсе не могут быть объяснены подобным образом. Все же, если мы не хотим отказаться от иссле- дования, мы должны неустанно направлять его на то, чтобы вскрыть языковое строение в его первоосновах, в том месте, где находятся его органические и духовные корни. Было бы невозможно сколько-нибудь исчерпывающим образом разобрать здесь эту тему. Поэтому я ограничусь лишь беглым рассмотрением двух примеров и для рассмотрения первого из них привлеку семитские языки, а среди последних — преимущественно древнееврейский. Эта языковая семья явно принадлежит к флективным; выше мы даже отмечали, что для нее характерна флексия в самом чистом виде в противовес значимому присоединению аффиксов. Древнееврейский и арабский языки могут доказать также и высокие внутренние качества своего строения: первый — произведениями высочайшего поэтического полета, второй — богатой, многообразной научной литературой наряду с поэтической. И в чисто техническом отношении организм этих языков не только не уступает никакому другому в строгой последовательности, искусной простоте и глубокомысленной гармонии звука и мысли, но, вероятно, превосходит все остальные языки. И все же эти языки имеют две особенности, не удовлетворяющие естественным требованиям, можно даже с уверенностью добавить — не удовлетворяющие потребностям языка вообще. А именно: по меньшей мере в их современном виде они требуют непременного наличия трех согласных в каждом корне, причем согласные и гласные в равной мере не указывают на значение слов; значением наделены исключительно согласные, тогда как гласные обозначают лишь грамматические отношения. Первая из этих особенностей обусловливает тесные рамки для формы слова, которым естественно предпочесть свободу других языков, особенно санскритской семьи. Вторая особенность также обнаруживает не* достатки, отсутствующие при флексии, основанной на присоедине-нии надлежащим рбразом подчиненных звуков. Поэтому я все же убежден, что, исходя из этих соображений, необходимо причислить семитские языки к отклоняющимся от наиболее целесообразного пути развития духа. Но если попытаться проследить причины этого явления и связь их с национальными предпосылками языкового развития, то вряд ли можно добиться полностью удовлетворительного результата. Во-первых, сразу оказывается неясным, какую из двух отмеченных особенностей нужно рассматривать в качестве исходной, обусловившей другую. Очевидно, что обе они находятся в теснейшей взаимосвязи. Количество слогов, возможное при трехсогласном корне, как бы приглашало к обозначению разнообразных связей между словами путем чередования гласных; если же говорящие хотели приспособить гласные исключительно для этой цели, то необходимого богатства значений они могли добиться только путем увеличения числа согласных в слове. Однако описанное здесь взаимовлияние более способно объяснить внутренние взаимосвязи языка
2 Гримм в своем истинно глубокомысленном стиле выражает эту идею следующим образом: согласные формируют, гласные определяют и освещают слово. („Немецкая грамматика", II, с. 1). гласных, между которыми заключался гласный. Возможно, что гласный, зажатый и заглушённый, таким образом, звучанием сосед- них согласных, потерял способность к надлежащему самостоятельному развитию и потому перестал принимать участие в передаче значения. Позднее возникшая необходимость грамматического обозначения сначала, возможно, обусловила появление упомянутой особенности и потребовала добавления второго слога с тем, чтобы создать больший простор для флексий. Но в любом случае все же должна была существовать еще какая-то причина для ограничения свободы гласных, и ее, скорее всего, нужно искать не во внутреннем устройстве языка, а в качествах органов и в особенностях произношения. Более надежным, чем обсуждавшееся до сих пор, и более важным для определения отношения семитских языков к развитию духа мне кажется то, что внутреннему языковому сознанию этих народов все же недоставало необходимой остроты и четкости разграничения материального значения слов и их отношения, с одной стороны, к формам речи и мышления вообще, с другой стороны — к образованию предложений. Сам этот факт уже представлял опасность для чистоты различения функций согласных и гласных. Прежде всего я должен обратить здесь внимание на особую природу тех звуков, которые в семитских языках именуются корнями, но которые существенно отличаются от корневых звуков других языков. Поскольку гласные исключены из области материального значения, то три согласных корня должны быть, строго говоря, лишены гласных, то есть сопровождаться только теми звуками, которые необходимы для их собственной артикуляции. Но в таком виде они не могут обрести требуемой для речи звуковой формы, поскольку и семитские языки не допускают нескольких, непосредственно следующих друг за другом согласных, связанных одним только шва. С присоединенными гласными они выражают то или иное определенное грамматическое значение и уже не являются безаффиксальными корнями. Итак, когда корни действительно появляются в языке, они уже представляют собой настоящие формы слов; в их собственно корневом облике им еще недостает важного компонента для речевого воплощения своей звуковой формы. Таким образом, сама флексия в семитских языках приобретает другой смысл, нежели тот, который это понятие имеет в прочих языках, где корень, свободный от любых аффиксов, все же понятен на слух и может фигурировать в речи по меньшей мере как часть слова. Слова с флексиями подвергаются в семитских языках не видоизменениям первоначальных звуков, но воплощению в настоящую звуковую форму. И поскольку исходное корневое звучание, противопоставленное флектирован-ному, недоступно для слуха в речевом потоке, то наносится ущерб противопоставленности выражений значения и грамматических отношений. Правда, вследствие этого сама связь между значениями и отношениями становится еще теснее и использование звуков, согласно остроумному и правильному замечанию Эвальда, становится более целесообразным, чем в каком-либо другом языке, ибо на долю
Я также не могу здесь не упомянуть еще об одном, представляющемся мне важным различии в обозначении разнообразных видов отношений. Обозначение падежей имени — в тех случаях, когда они вообще имеют выражение, а не различаются лишь посредством позиции,— осуществляется путем присоединения предлогов, обозначение лиц глагола — путем присоединения местоимений. Эти два типа аффиксов никак не влияют на значение слов. Они суть выражения чистых, общеупотребительных отношений. Но грамматическим средством при этом является присоединение, и присоединение таких букв или слогов, которые язык расценивает как самостоятельные и лишь до определенной степени прочности связывает со словами. Если же при этом возникает также чередование гласных, то оно представляет собой следствие этих приращений, присоединение которых не может не воздействовать на форму слова в языке, обладающем столь точно определенными правилами строения слов. Выражения остальных отношений, заключаются ли они в чистом чередовании гласных, или в чередовании гласных с одновременным добавлением согласных звуков, как в случаях типа hifil, nifal и т. д., или же в удвоении одного из согласных самого слова, как в большинстве форм степеней прилагательных, более тесно связаны с материальным значением слова, в большей или меньшей степени модифицируют последнее, а иногда даже совсем изменяют его, на-пример когда от основы „большой" как раз таким способом произво-дится глагол „воспитать". Первоначально и главным образом он»| обозначают настоящие грамматические отношения, различие имени| и глагола, переходные либо непереходные, возвратные и каузатив-ные глаголы и т. д. Изменение первоначального значения, в резуль-тате которого возникают производные понятия, есть естественное следствие самих этих форм, без всякого смешения выражений от 236 ношения и значения. Это доказывается также аналогичным явлением в санскритских языках. Но поразительно само различие упомянутых двух классов (с одной стороны, падежные и местоименные аффиксы, с другой — аффиксы внутренней глагольной флексии) и различие в способе их обозначения. В этом явлении, правда, можно усмотреть некоторую соотнесенность с самой природой рассматриваемых случаев. Там, где понятие не претерпевает изменения, отношение обозначается лишь внешне, и, напротив, оно выражается внутри, в самой основе, там, где грамматическая форма, относящаяся только к данному отдельному слову, модифицирует значение. Гласный выполняет при этом функцию уточнения, более отчетливой модификации, о чем говорилось выше. Фактически такую природу имеют все случаи второго класса, и они могут (если не выходить за рамки рассмотрения глагола) применяться даже к одним причастиям, не затрагивая при этом сферу действия глагола. То же самое происходит в бирманском языке, и глагольные выражения в малайских языках описывают приблизительно тот же самый круг понятий, что и данный способ обозначений в семитских языках, потому что на самом деле все случаи такого рода сводятся приблизительно к изменению самого понятия. Это верно даже для обозначения времен, если обозначение времени осуществляется при помощи спряжения, а не синтаксическими средствами, ибо таким способом противопоставляются просто действительность и неизвестность, которую еще нельзя с уверенностью определить. Напротив, представляется странным, что как раз те аффиксы, которые в большинстве случаев всего лишь вводят неизменное понятие в новое отношение, как в случае с падежами, и те, которые, как в случае с лицами, формируют самые существенные аспекты глагольной природы, получают менее формальное обозначение, даже чуть ли не приобретают агглютинативный характер, в то время как аффиксы, модифицирующие само понятие, обозначаются самым формальным образом. Кажется, что здесь путь развития языкового сознания- нации состоял не в четком разграничении отношения и значения, но скорее в закономерном упорядочении понятий, вытекающих из первоначального значения, в соответствии с систематическим подразделением грамматических форм в различных их нюансах. В противном случае не произошло бы затушевывания общности природы всех грамматических отношений за счет присвоения им двоякого способа выражения. Если это рассуждение окажется правильным и фактически обоснованным, то рассмотренный случай показывает, как народ может, проявляя по отношению к своему языку поразительную проницательность и редкое чувство взаимообусловленности понятия и звука, все же отклониться от того пути, который наиболее естествен для языка вообще. Учитывая все особенности формы семитских языков, обрисованные здесь в главных чертах, легко объяснить то, что эти языки не склонны к словосложениям. Если бы они даже могли преодолеть трудности, связанные с присвоением многосложным словам твердо установленной языковой формы (такие трудности хорошо видны на примере сложных собственных имен), они,
Языку делаваров в Северной Америке, вероятно, более, чем какому-либо другому языку, свойственно образовывать новые слова посредством словосложения. Но элементы этих сложений редко содержат целиком исходные слова — от них сохраняются лишь части и даже лишь отдельные звуки. Из примера, приводимого Дю Понсо 1, можно даже заключить, что говорящий может по своему усмотрению составлять такие слова или, скорее, целые фразы, втиснутые в одно слово, из фрагментов простых слов. Из слов ki 'ты', wulit 'хороший, красивый, хорошенький', wichgat 'лапа' и schis — слово, используемое как окончание со значением уменьшительности,— образуется в качестве обращения к кошечке слово k-uli-gat-schis 'твоя хорошенькая маленькая лапка'. Подобным же образом целые выражения становятся глаголами и могут самостоятельно спрягаться. Из naten 'нести, везти, перевозить, amochol 'лодка' и заключительного подчиненного местоимения 1-го лица множественного числа получается nad-hol-ineen, что означает: 'Перевези нас на лодке!' (через реку). Уже из этих примеров видно, что модификации слов, образующих эти сложения, весьма значительны. Так, в приведенном выше примере из wulit получается uli, в других случаях, если в сложении не оказывается предшествующего согласного,— wul; даже и с предшествующим согласным возможен еще вариант ola 2. Сокращения также иногда весьма заметны. От awesis 'животное' при образовании слова 'лошадь' в сложении остается только слог es. Одновременно, поскольку фрагменты слов выступают лишь в сочетаниях с другими звуками, происходят эвфонические изменения, делающие эти фрагменты еще менее узнаваемыми. Производящей основой для упомянутого уже слова nanayung-es 'лошадь' является nayundam 'нести на спине груз', к которому добавлено окончание es. Звук g, по-видимому, вставной, и усиление посредством удвоения первого слога применяется лишь в сложении. Одно начальное m, взятое из слов machit 'плохой' или medhick 'злой, дурной', придает слову значение чего-то дурного и оттенок пренебрежительности3. Такое коверканье слов считали варварским
2 „Transactions of the Historical and Literary Committee of the American 3 Цейсбергер в цитированной работе замечает, что mannitto представляет со и очень критиковали. Но нужно было бы обладать более глубокими познаниями в области делаварского языка и родственных связей между его словами, чтобы решить, действительно ли в сокращенных словах уничтожены, а не, наоборот, сохранены корневые слоги. То, что на самом деле в некоторых случаях дело обстоит именно так, видно на одном достопримечательном примере. Lenape означает 'человек'; слово lenni, в сочетании с предшествующим (Lenni Lenape) образующее название главного рода делаваров, обозначает нечто первоначальное, чистое от примесей, исконное и поэтому имеет также значение 'обычный, обыкновенный'. В этом последнем смысле рассматриваемое выражение служит для обозначения всего туземного, данного стране великим и добрым духом, в противовес тому, что пришло из чужих земель вместе с белыми людьми. Аре означает ■ходить на двух ногах' 1. Таким образом, в lenape вполне справедливо содержатся характерные признаки ходящего прямо туземца. Легко объяснимо и то, что указанное слово служит вообще для обозначения'человека, а чтобы стать именем собственным, еще раз сочетается с понятием исконного. В pilape 'юноша' слово pilsit 'целомудренный, невинный' сочетается с той частью слова lenape, которая обозначает характерный признак людей. Поскольку слова, объединенные в сложении, по большей части многосложны и в свою очередь представляют собою результат словосложения, то все зависит от гого, какая их часть использована в качестве элемента нового композита, что можно бы было определить только на основании более точного знания языка, почерпнутого из полноценного словаря. Само собой понятно и то, что языковое употребление должно было предусмотреть определенные правила для такого рода сокращений. Это видно хотя бы из того, что в приведенных примерах определяе-мое слово всегда стоит после определяющего в качестве последнего элемента сложения. Поэтому такое кажущееся коверканье слов, вероятно, заслуживает более снисходительной оценки и не является столь разрушительным для этимологии, как это представляется нам на первый взгляд. Оно явно находится в связи с уже указанной выше, характерной для американских языков тенденцией сочетать с глаголом и именем местоимения в сокращенной или еще более видоизмененной форме. Только что сказанное о делаварском языке указывает на еще более общее стремление к выражению нескольких понятий в одном и том же слове. Если сравнить друг с другом различные языки, выражающие грамматические отношения без флексии, при помощи частиц, то оказывается, что одни из них, такие, как бирманский, большинство языков Южных Островов и даже маньчжурский и монгольский, обнаруживают склонность к отделению частиц от определяемых ими слов, в то время как американским языкам скорее свойственно стремление к их объединению. Последнее естественным образом вытекает из описанного выше (§ 29а)
способа соединения элементов, который я представил как недостаток синтаксиса и объяснил тем, что языковое сознание не решается надлежащим для понимания образом скрепить части, образующие предложение. В наблюдаемом здесь делаварском словообразовании можно, однако, усмотреть и еще один аспект. Тут явственно проступает стремление к тому, чтобы понятия, связанные между собой в мысли, не появлялись бы поодиночке, но получали бы одновременное выражение в рамках единой звуковой формы. Это творческое обращение с языком, тесно связанное с общей, проявляющейся, во всех его выражениях, образной трактовкой понятий. Желудь называется wu-nach-quim 'орех листа-руки' (от wumpach 'лист', nach 'рука' и quim 'орех'), потому что живое народное воображение сравнивает дубовые листья, имеющие резные края, с рукой. Здесь также следует обратить внимание на двойное следствие упомянутого выше закона о расположении элементов, сначала касающегося последнего из них, а затем двух первых, при взаимном расположении которых рука, как если бы она была сделана из листа, оказывается позади этого последнего слова, но не наоборот. Очевидно, имеет большое значение, сколько содержания язык заключает в одном слове, вместо того чтобы воспользоваться описательным выражением из нескольких слов. Точно так же и хороший писатель в таких случаях тщательно разграничивает тот или иной способ выражения, если язык оставляет ему свободу выбора. Точное равновесие, соблюдаемое в этом отношении греческим языком, несомненно, относится к числу его величайших достоинств. Заключенное в одном слове является духу в более целостном виде, ибо слова в языке суть то же, что индивидуумы в реальном мире. Воображение в этом случае возбуждается сильнее, чем когда перед ним предстают разобщенные сущности. Поэтому объединение в одно слово — прежде всего функция воображения, а разделение — функция разума. Оба эти начала могут даже вступать в противоречие друг с другом и по меньшей мере ведут себя по своим собственным законам, и данный случай представляет собой яркий пример различия между этими законами. Разум требует от слова не только того, чтобы оно передавало понятие во всей его полноте и с четкой определенностью, но и того, чтобы в нем содержалось указание на те логические связи, в которые оно вступает в языке и речи. Этим требованиям разума язык дела-варов отвечает лишь своим собственным, неприемлемым для высшего языкового сознания, способом. Напротив, он представляет собой живой символ воображения, выстраивающего друг за другом ряды картин, и в этом проявляет весьма своеобразную красоту. Также и в санскрите так называемые несклоняемые причастия, столь часто служащие для выражения придаточных предложений, в основном способствуют живому представлению мысли, части которой они одновременно преподносят духу. Но поскольку они имеют грамматические обозначения, в них оказывается объединенной строгость требований разума со свободным потоком воображения. В этом отношении они достойны одобрения; но причастия имеют и отрица- тельную сторону, а именно — своей неповоротливостью они сковывают свободу синтаксиса, а сам способ образования причастий, состоящий в объединении элементов, заставляет думать о недостаточном многообразии средств для надлежащего распространения предложений. Мне кажется заслуживающим внимания, что подобное смелое и образное соединение слов встречается как раз в североамериканском языке, хотя я и не хотел бы с уверенностью выводить отсюда следствия о противопоставленности характера этих народов характеру южных народов, так как для этого нужно было бы иметь больше данных о тех и о других и об их древней истории. Определенно, однако, что в речах и разговорах этих североамериканских племен мы наблюдаем больший подъем духа и более смелый полет воображения, чем в том, что нам известно о Южной Америке. Некоторую роль в этом могли сыграть природа, климат и охотничья жизнь, более свойственная для народов этой части Америки и обусловливающая дальние походы через безлюдные тропические леса. Но если факты сами по себе верны, то, бесспорно, чрезвычайно пагубное влияние нужно приписать крупным деспотическим правительствам, в особенности перуанскому, подавлявшему свободное развитие личности, помимо всего, также и религиозными средствами. Напротив, североамериканские охотничьи племена, по меньшей мере, насколько нам известно, всегда жили только в условиях свободных объединений. Со времени завоевания Америки европейцами судьба обеих ее частей также была различна, и наиболее существенные различия наблюдались как раз в том отношении, которое нас здесь интересует. Иностранные поселенцы на северном побережье Америки, хотя и оттеснили' туземцев и захватили, пусть даже нечестными путями, их владения, но не поработили их; и их миссионеры, вдохновленные свободным и "кротким духом протестантизма, были чужды тому тираническому монашескому режиму, который систематически насаждали испанцы и португальцы. Не является ли богатое воображение, явственный отпечаток которого лежит на таких языках, как делаварский, свидетельством того, что в них сохраняется юношеский облик языка? Это вопрос, на который трудно дать ответ, поскольку здесь почти невозможно различить, что обусловлено эпохой, а что — духовной ориентацией нации. По этому поводу я замечу лишь, что сложение слов, от которых в наших современных языках могли остаться лишь отдельные буквы, вполне могло происходить даже в самых прекрасных и развитых языках, ибо восхождение от простого к сложному лежит в природе вещей, а на протяжении всех тех тысячелетий, когда язык передавался народами из поколения в поколение, значения исходных звуков, естественно, утратились. 37. В самом решительном противопоставлении среди всех известных языков находятся китайский и санскрит, ибо первый отказывается от всякой грамматической формы, перенося ее в сферу работы духа, а последний стремится вплоть до тончайших оттенков воплотить ее в звуке. Различие между обоими языками очевидным 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
 в его современной форме, чем служить историческим основанием подобного строения. Обозначение грамматических отношений одними гласными плохо подходит для объяснения первопричины, поскольку в языках вообще естественным исходным началом является значение, а потому требует объяснения сам факт исключения из него гласных. Гласные необходимо рассматривать в двоякой функции. Прежде всего они являются звуками, без которых согласные невозможно произнести; с другой стороны, они различаются в соответствии с тем качеством, которое они имеют в вокалическом ряду. В первой функции представлены не гласные, но лишь один, стоя-щий при согласных, общий гласный звук, или, если угодно, вообще еще не настоящий гласный, но неясный, неразвитый звук типа „шва". Нечто сходное наблюдается и у согласных при их соединении с гласными. Гласный же, чтобы стать слышимым, нуждается в консонантном придыхании, и последнее, поскольку оно обладает свойствами, пригодными лишь для этой цели, отличается от прочих согласных, противопоставленных друг другу по звучанию 1. Отсюда уже само собой вытекает, что в выражении понятий гласные лишь сопутствуют согласным, и, как это уже признано наиболее проницательными языковедами 2, служат главным образом для уточнения значения слова, образованного посредством согласных. Фонетическая природа гласных такова, что они обозначают нечто более тонкое, более проникновенное и глубинное, чем согласные; они как бы более бестелесны и духовны. Поэтому они более подходят для грамматических обозначений, чему способствует и легкость их звучания, и их способность присоединяться. Но в семитских языках они находят исключительно грамматическое применение, что, как мне кажется, представляет собой уникальное явление в истории языков и потому требует своего собственного, особого объяснения. Если пытаться найти это объяснение исходя из другой особенности — двусложного строения корня, то такой попытке препятствует то обстоятельство, что это строение корня, хотя и конститутивное для известного нам состояния этих языков, все же, вероятно, на самом деле не является первоначальным. Скорее, как я постараюсь показать ниже, в основе его, и, вероятно, в большей мере, чем сейчас принято допускать, лежало односложное строение. Но возможно, что особенность, которую мы здесь обсуждаем, все же прямо вытекает отсюда и из перехода к двусложным формам. Односложные формы, к которым приводит нас сравнение двусложных форм между собой, содержали два со-
в его современной форме, чем служить историческим основанием подобного строения. Обозначение грамматических отношений одними гласными плохо подходит для объяснения первопричины, поскольку в языках вообще естественным исходным началом является значение, а потому требует объяснения сам факт исключения из него гласных. Гласные необходимо рассматривать в двоякой функции. Прежде всего они являются звуками, без которых согласные невозможно произнести; с другой стороны, они различаются в соответствии с тем качеством, которое они имеют в вокалическом ряду. В первой функции представлены не гласные, но лишь один, стоя-щий при согласных, общий гласный звук, или, если угодно, вообще еще не настоящий гласный, но неясный, неразвитый звук типа „шва". Нечто сходное наблюдается и у согласных при их соединении с гласными. Гласный же, чтобы стать слышимым, нуждается в консонантном придыхании, и последнее, поскольку оно обладает свойствами, пригодными лишь для этой цели, отличается от прочих согласных, противопоставленных друг другу по звучанию 1. Отсюда уже само собой вытекает, что в выражении понятий гласные лишь сопутствуют согласным, и, как это уже признано наиболее проницательными языковедами 2, служат главным образом для уточнения значения слова, образованного посредством согласных. Фонетическая природа гласных такова, что они обозначают нечто более тонкое, более проникновенное и глубинное, чем согласные; они как бы более бестелесны и духовны. Поэтому они более подходят для грамматических обозначений, чему способствует и легкость их звучания, и их способность присоединяться. Но в семитских языках они находят исключительно грамматическое применение, что, как мне кажется, представляет собой уникальное явление в истории языков и потому требует своего собственного, особого объяснения. Если пытаться найти это объяснение исходя из другой особенности — двусложного строения корня, то такой попытке препятствует то обстоятельство, что это строение корня, хотя и конститутивное для известного нам состояния этих языков, все же, вероятно, на самом деле не является первоначальным. Скорее, как я постараюсь показать ниже, в основе его, и, вероятно, в большей мере, чем сейчас принято допускать, лежало односложное строение. Но возможно, что особенность, которую мы здесь обсуждаем, все же прямо вытекает отсюда и из перехода к двусложным формам. Односложные формы, к которым приводит нас сравнение двусложных форм между собой, содержали два со- 1 Это положение самым ясным и убедительным образом установил Лепсиус в своей „Палеографии"; там же он показал различие между начальным а и h в санскритском письме. Занимаясь бугийским и некоторыми другими родственными алфавитами, я обнаружил, что знак, толкуемый как начальное а во всех описаниях языков, которым принадлежат эти алфавиты, на самом деле вовсе не гласный, а обозначение слабого, сходного с греческим spiritus lenis, консонантногс придыхания. Но все указанные мною (см. „Nouv. Journ. Asiat.", IX, 489—494) явления можно лучше и правильнее объяснить исходя из сказанного по тому же поводу Лепсиусом при разборе санскритского алфавита.
1 Это положение самым ясным и убедительным образом установил Лепсиус в своей „Палеографии"; там же он показал различие между начальным а и h в санскритском письме. Занимаясь бугийским и некоторыми другими родственными алфавитами, я обнаружил, что знак, толкуемый как начальное а во всех описаниях языков, которым принадлежат эти алфавиты, на самом деле вовсе не гласный, а обозначение слабого, сходного с греческим spiritus lenis, консонантногс придыхания. Но все указанные мною (см. „Nouv. Journ. Asiat.", IX, 489—494) явления можно лучше и правильнее объяснить исходя из сказанного по тому же поводу Лепсиусом при разборе санскритского алфавита.
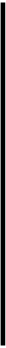
 легкоподвижных гласных выпадает более духовное, а на долю со гласных — более материальное. Однако ощущение необходимого единства слова, объединяющего в себе и значение и отношение, сильнее тогда, когда сплавленные элементы можно выделить в самостоятельном виде, и это соответствует целям языка, который вечно разъединяет и связывает, а также и самой природе мышления. Но даже при исследовании отдельных видов выражения отношений и значе-ний обнаруживается, что язык не свободен от некоторого смешения тех и других. Вследствие отсутствия в нем неотделимых -предлогов он не может выразить целый класс отношений, образующих цельную систему и представимых в виде полной схемы. В семитских языках это отсутствие частично компенсируется тем, что имеются специальные слова, обозначающие такие модифицированные предлогами глагольные понятия. Но это не может обеспечить необходимой полноты, и в еще меньшей мере это кажущееся богатство может нейтрализовать недостаток, заключающийся в том, что хотя при таких условиях противопоставление менее ощутимо, но и все целое становится плохо обозримым и говорящие теряют возможность легкого и надежного развития своего языка посредством отдельных, ранее не опробованных использований предлогов.
легкоподвижных гласных выпадает более духовное, а на долю со гласных — более материальное. Однако ощущение необходимого единства слова, объединяющего в себе и значение и отношение, сильнее тогда, когда сплавленные элементы можно выделить в самостоятельном виде, и это соответствует целям языка, который вечно разъединяет и связывает, а также и самой природе мышления. Но даже при исследовании отдельных видов выражения отношений и значе-ний обнаруживается, что язык не свободен от некоторого смешения тех и других. Вследствие отсутствия в нем неотделимых -предлогов он не может выразить целый класс отношений, образующих цельную систему и представимых в виде полной схемы. В семитских языках это отсутствие частично компенсируется тем, что имеются специальные слова, обозначающие такие модифицированные предлогами глагольные понятия. Но это не может обеспечить необходимой полноты, и в еще меньшей мере это кажущееся богатство может нейтрализовать недостаток, заключающийся в том, что хотя при таких условиях противопоставление менее ощутимо, но и все целое становится плохо обозримым и говорящие теряют возможность легкого и надежного развития своего языка посредством отдельных, ранее не опробованных использований предлогов.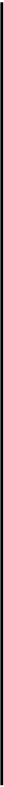 скорее, предпочли бы воздержаться от таких слов в силу привычки народа к более короткой форме слова, допускающей четкое, расчлененное и легкообозримое внутреннее строение. Кроме того, необходимость в образовании словосложений была меньше, поскольку богатство основ делало их излишними.
скорее, предпочли бы воздержаться от таких слов в силу привычки народа к более короткой форме слова, допускающей четкое, расчлененное и легкообозримое внутреннее строение. Кроме того, необходимость в образовании словосложений была меньше, поскольку богатство основ делало их излишними. 1 Предисловие к делаварской грамматике Цейсбергера (Филадельфия, 1827,
1 Предисловие к делаварской грамматике Цейсбергера (Филадельфия, 1827, 1 Так по крайней мере я понимаю Хеккевельдера („Transactions", 1.411). В любом случае аре представляет собой просто окончание, характерное для существ, которые ходят на двух конечностях, т. е. прямо, так же как chum — для четвероногих животных.
1 Так по крайней мере я понимаю Хеккевельдера („Transactions", 1.411). В любом случае аре представляет собой просто окончание, характерное для существ, которые ходят на двух конечностях, т. е. прямо, так же как chum — для четвероногих животных.