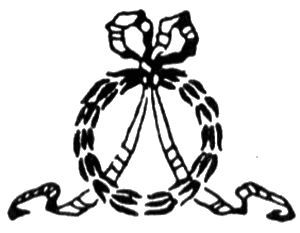|
|
Царь Соломон и царь Гороскат 11 глава— Чтоб тебя, — говорит, — черт взял, триста чертей, тридцать и три, проклятое! И когда шли от венца молодые, черт внука и схапал, только и видели. Осталась молодуха одна без молодого, плачет. Тошно ей одной, тошно на свете жить: постыл ей белый свет без милого. «Либо петлю на шею, либо мужа верни!» — одно у ней на уме, и посылает она свекра мужа искать. Жалко старику сына. Говорит старик своей хозяйке: — Спеки мне лепешек на дорогу, пойду за сыном. Испекла хозяйка лепешек, снарядила своего старика в дорогу, пошел старик в лес. И в лесу там шел, шел, набрел на избушку — в лесу там, вошел в избушку, положил лепешки на стол, сам за печку. И слышит старик: идет… в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, идет… приходит в избушку, садится на лавку… Жаль, — говорит, — мне-ка батюшки, жаль мне-ка матушки, — а сам все в скрипку выскрипывает, в балалайку выигрывает, — жаль мне молодой жены…
Хоть бы не жил я, расстался, Хоть бы жил да потерялся!
Отец обрадовался, узнал сына, выходит из-за печки. — Ой, — говорит, — сын ты мой любезный, пойдем домой со мною. — Нет, отец, нельзя никак! — сын пошел из избы. Отец вслед: — Я от тебя не отстану, куда ты, туда и я. И приходят они к яме, там, в лесу. Сын с отцом прощается. Поклонился сын отцу до земли да бух в яму. Постоял старик, постоял, не смеет лезть за сыном в яму и пошел, слезно заплакал, домой пошел. У околицы встречает старика молодуха, горит вся: — Ну что, видел? — Видеть-то видел, — говорит старик, — да взять его никак невозможно, — и рассказал все, как было. Как полотно, побелела молодуха. — Я, — говорит, — завтра… я сама пойду. Куда он, туда и я. Я от него не отстану. — Нет, невестка, отстанешь. А она: — Нет, не отстану. А старуха бабка, слушавши, скалит свой зуб черный — смеется, ведьма: мол, отстанешь! Напекла молодуха лепешек, дождалась, как светать станет, и чуть поднялось солнце, пошла в лес и вышла на дорогу, как наказал старик, и там набрела на ту избушку, — там в лесу. Вошла в избушку, положила лепешки на стол, а сама за печку. И слышит молодуха: идет… в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, идет… приходит в избушку, садится на лавку… — Жаль, — говорит, — мне-ка батюшки, жаль мне-ка матушки, — а сам в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, — жаль мне молодой жены…
Хоть бы не жил я, расстался, Хоть бы жил да потерялся!
Тут и вышла она из-за печки, кинулась к мужу. — Ну, — говорит, — муж мой возлюбленный, куда ты, туда и я. Я от тебя не отстану. — Отстанешь, — говорит он ей, — бедная ты! А она: — Нет, не отстану. И вышли они вместе из избы в лес и приходят к той самой яме, и стал он слезно прощаться: — Прощай, — говорит, Любава моя, тебе меня не видать больше. А она: — Куда ты, туда и я. — Нет уж, ты за мной не ходи, сделай милость. — Нет, я пойду, ни за что не отстану. Он бух в яму и скрылся. А она постояла, постояла, да за ним вслед, туда же — в яму. — Все равно, — говорит, — где он, там и я: одна жизнь! И как упала она вслед за ним в яму, смотрит: дорога там, дом, и он уж подходит к дому. Догнала она его, ухватилась: — Я с тобой! — Ой, — говорит он, — погибли мы теперь оба; ты и я: свадьбу ведь играют, дочку за меня выдают. И они вместе вошли в дом. А там сидит старик, страсть и глядеть такой страшный старик, а с ним все триста и тридцать и три — черти, свадьбу играют. — Это кого ж ты привел? — сказал старик, главный. — Это жена моя, Любава. Она старику в ноги. Старик ее бить: и ломал, и лягал, и щипал, и всяк ее ломал, да как наступит ножищей, — закричала она по-худому, на глотку стал. — Несите ее, — старик задохнулся от злости, — его да ее, стащите обоих из дому вон, откуда их взяли, чтобы и духу не пахло! Ну и потащили. И притащили их ночью к дому, хряснули о крыльцо, инда хоромы затрещали. Так вернула Любава себе мужа, Петра, желанная, милого. И стали они жить и быть и добра наживать, от лиха избывать. 1909
Потерянная
У одного купца росла дочь Домна. Строго ее держал отец: ни на улицу выйти, ни на гулянье куда, за порог без себя не пустит. В верхах сидела Домна. И кушанье ей туда подавали, готовое все. Так в верхах и сидела Домна, только что из окна и глядит на свет Божий. Богатый купец был, отец Домны: свой кабак, сорок целовальников при кабаке держал. У купцова дома всегда народ. А в праздник соберутся парни, игру затеют, веселятся. Как-то играли парни, кто в рюхи, кто мячиком. Мячик в окно в верхи и заскочи к Домне. Домна окно закрыла. И как ни просили ее, не отдает мячика. Ну, а тут какой-то и выскочил — рукавицы с когтями, сапоги с когтями, да по стене к ней к окну в верхи и забрался. Домна окошко отворила и отдала ему мячик. И с той поры стал смельчак гостить к купцовой дочке.
Сидит раз дружок у Домны в верхах, а отец и идет. Что ей делать? Куда схоронить дружка? Взяла она да в постель его к подушкам и завернула. Пришел старик, сел на кровать: то да се, дочку расспрашивает. Строгий был старик, строго держал дочь, а без Домны дела не начнет, все только с ней и совету. Любил старик дочь: одна она у него была. За разговорами старик и задремал, протянулся поудобнее, да и заснул на кровати. А тот, дружок-то, лежал-лежал под стариком и кончился: без воздуху трудно, задохнулся. Что ей делать? Отцу-то не смеет сказать: не спустит старик — строгий был, строго держал дочь. Домна к дворнику: — Выручи, — говорит, — Максим, убери. Убьет батюшка. — А дворник, — был такой дворник у купца шантряп из городу, в городе бурлачил, а вернулся в деревню, в дворники к купцу поступил, — ему это плевое дело, он этого парня во двор спустил и убрал куда-то. И стал шантряп с поры на пору к купцовой дочке похаживать, как дружок покойный.
Осень пришла, ночи темные. Собрались купцовы целовальники, все сорок целовальников в кабак при празднике, и с ними дворник: без него дело не обходится. Выпили приятели, затавокали: кто про что, известно, хвастают, вино-то куда хвастливо! Дворник и говорит: — Вы, — говорит, — что! Я вот, я, — говорит, — к купцовой дочке хожу! — Что ты врешь, — галдят, — быть не может! — крякают. — И очень просто, хожу! — ломается шантряп. — А если ходишь, так приведи. — Что ж, и приведу! — пуще ломается шантряп, да из кабака к купцу в дом в верхи. Поздний был час, спать улеглись по домам. Разбудил дворник Домну. А ей, хоть плачь, идти надо. И привел шантряп купцову дочку в кабак, вывел на середку к целовальникам, сам куражится. — Угощай, — говорит, — гостей, кланяйся! Взяла Домна поднос, две рюмки на поднос, бутылку вина, пошла обходить гостей, потчевать. Пьют гости, подмигивают: рожи красные, пьяные. Раз что Домна за шатряпа пошла, им ли не взять ее! — всяк о себе свое одно думает, глазом примеривает. Пьют гости, подмигивают. А она глаз не подымет, ходит с подносом, кланяется. И напились целовальники, свалились с лавки под стол, и дворник захрапел под столом. Все заснули, все сорок целовальников. Одна Домна, одна в кабаке с подносом стоит. «До утра дождаться, все узнают, донесут батюшке!» — думает себе Домна, а сердце так и ходит, так и рвется. И взяла Домна отворила бочку с вином, пропустила вино да и зажгла все вино, а сама домой, в верхи, в свою комнату. Поутру встает старик, а к нему посланный: — Кабак сгорел, сорок целовальников сгорело в кабаке и дворник твой сгорел. Старик к Домне: в горе ли, в радости — все к ней, с ней одной совет. Строгий был старик, строго держал дочь, а любил ее: одна она у него была. — Что, — говорит, — дитятко, спишь, беда у нас. А на ней лица нет. — Так мне, батюшка, тяжело мне было, так… не спала я, спать не могла… — Кабак сгорел, сорок целовальников сгорело в кабаке… — говорил отец, сам смотрит на дочь, и вдруг понял старик, — все, все сгорели и дворник твой! 1911
Робкая
Жила-была одна девица, умер у ней отец, умерла и мать. Осталась одна Федосья, да без отца, без матери и спозналась с работником отцовским. Хороший был работник-бурлак, крепко полюбил Федосью, и Федосья к нему привязалась, и жить бы им да жить, да люди-то говорить стали — нехорошо. Федосья и оробела. Пошла Федосья к дяде, просить дядю и тетку: — Возьмите, — говорит, — меня, примите к себе. А дядя и тетка говорят: — Покинь свою дружбу, так мы тебя возьмем. На все готова Федосья: оробела девка. — Покину, — говорит, — покину, возьмите только. И приняли старики племянницу, и стала Федосья жить в дядином доме: как дочь стала жить, а дружбы своей не покинула. Пойдет на вечеринку, там украдкой и свидится с ним, где-нибудь в сторонке, украдкой, поговорит с ним, — поговорят, потужат. И опять в люди вышло: узнал дядя, узнала и тетка, стали старики поругивать Федосью. А тут этот работник-бурлак вдруг и помер. — Слава Богу, — успокоился дядя, успокоилась тетка, — больше с ним знаться не будешь! И стали старики подумывать, как бы племянницу замуж выдать, стали старики присматривать ей человека. А Федосья прежде-то, как жив он был, работник-то, все таилась, робкая, скрывала от людей, а уж тут, — куда робь! — ничего не таит, никого не боится, и все по нем тоскует, все в уме его держит. Пойдет на вечеринку, ни петь не поет, ни в игры не играет, а как сядет, одна сидит молча, и уж сама себе на могилу идти ладит, — к нему на могилу. А вернется с кладбища, спать ляжет, а в уме все одно, — о нем тоскует. И стал он приходить к ней ночью. Никто его не видит, ни дядя, ни тетка, одна она видит. — Я умер, — сказал он ей, — да не взаболь, иди за меня замуж. И с той поры повеселела Федосья, веселая, не узнаешь ее, подвенечное платье себе шить принялась. И на вечеринках не узнать ее. Тоже и на вечеринки стал он приходить к ней. Люди его не видят, одна она его видит. — Я за него замуж пойду! — говорит Федосья подругам, смеется. — Что ты, — говорят, — его ведь в живых нету. — Нету, как же! Он ожил! — смеется Федосья. Сшила себе Федосья подвенечное платье, в подвенечном платье невестой пришла на вечеринку. И он к ней пришел на вечеринку. Никто его не видит, одна она его видит. И они сговорились: она с вечеринки пойдет к нему в избу, где у отца он жил, а из избы вместе пойдут в церковь венчаться. — Я нынче замуж пойду! — сказала подругам Федосья, смеется, и простилась, ушла домой. Не слыхал ни дядя, ни тетка, как вернулась племянница в дом, крепко старики спали. А поутру хватились, племянницы-то и нет. Где, где? — не знают. Не знают, где и взять, и платья ее подвенечного нет. А девки говорят: — Сказывала, замуж пойдет. Старики на кладбище, к могиле. «Сказывала, замуж пойдет!» А она на могиле, мертвая на его могиле лежит, и платье ее подвенечное на кресте развешено. Так за покойным дружком и ушла, не сробела. 1911
Поперечная
Был один холостой парень и задумал жениться. А сватали на селе девицу, он на ней и женился. И тиха и смирна, глаз на мужа не подымет, будто ее и в доме нет, вот какая попалась жена Сергею. Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью, а Настасья и голосу не подаст. «Ишь, — подумал, — стыдливая какая!» — и сам уж вывел ее, усадил за стол. На обед была каша. Ест Сергей, да похваливает, а Настасья и ложки в руки не возьмет, сидит, как села. «Ишь, — подумал Сергей, — молода-то как!» — сам ей и ложку в руку дал, потчует. Ложку взять Настасья взяла, и опять на стол положила, отвязала от креста уховертку, да уховерткой и ну хлебать кашу по крупинке. То же самое случилось и на другой день, не ест по-людски Настасья да и только. «И чем это она наедается, — думал себе Сергей, — без пищи человеку невозможно; ведь, так и с голоду помереть может!» — и еще больше принялся жену уговаривать бросить уховертку и есть сытно. А Настасья ровно и не слышит, знай свое, уховерткой своей управляется. «Верно, ночью тайком наедается, когда люди спят, эка, еще неразумная!» — и положил Сергей караулить жену ночью: быть того не может, чтобы человек не ел ничего! Лег Сергей спать, легла и Настасья. Притворился Сергей, будто спит, захрапел, а сам все примечает. В самую полночь поднялась Настасья, слезла тихонько с кровати да из комнаты к двери. Выждал Сергей, пока за дверь выйдет, да за ней следом. А Настасья уж во двор, да за ворота, да на улицу. Сергей за ней следом. Шла Настасья, шла, повернула на кладбище и там прямо к свежей могиле. Сергей за крест, схоронился, ждет, что-то будет. И видит, еще идет так мужик бородатый, прошмыгнул среди крестов и тоже к могиле. И уж вдвоем с Настасьей принялись они за могилу. Разрыли они могилу, гроб вытащили, вынули из гроба покойника, раздели и ну его есть. И всего-то дочиста, до косточек объели, и, когда и самой малой жилки не осталось, гроб, саван и кости снова зарыли в могилу и разошлись: Настасья в одну сторону, бородатый в другую. Тут Сергей из-за креста вышел да скорее домой. Задами обогнал жену, да в дом, да на кровать, и опять притворился, будто спит, захрапел. Вернулась и Настасья, легла тихонько и сладко и крепко заснула. А Сергей — какой уж сон! — Сергей едва утра дождался. Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью. Сели за стол. На обед была каша. Настасья опять за свою уховертку, отвязала от креста уховертку и ну хлебать по крупинке. Сергей ей ложку. Взяла она ложку, повертела, повертела, положила на стол и уховертку свою спрятала, так и сидит. Сергей и не выдержал: — Что ж ты, — говорит, — не ешь? Или мертвец тебе слаще? А уж Настасья зверь зверем, — и! куда все девалось! — схватила Настасья со стола чашку да в лицо ему как плеснет. — Ну, — говорит, — коли узнал мою тайность, так будь же псом! Тявкнул Сергей по-песьи и стал псом-дворнягой. Настасья за палку, да его палкой за дверь, и прогнала из дому вон.
Выскочил Сергей псом-дворнягой и побежал. Бежит куда глаза глядят, полает, полает и опять бежать. К вечеру прибежал он в город, в мясную лавку и вскочил: проголодался больно. Попался мясник добрый, накормил пса, а пес и не уходит, визжит, остаться просится. Сжалился мясник, оставил. Переночевал пес ночь и за ночь ничего в лавке не сделал. «Экий пес-то умница!» — подумал мясник и решил не гнать пса, при лавке держать, лавку караулить. Приходит на утро в мясную булочник за говядиной, выбирает себе чего поприглядней, а пес так и ластится. Приласкал его булочник, бросил хлеба кусок, подхватил пес хлеб, съел да от мясника за булочником и утек в пекарню. И стал пес у булочника жить, лавку стеречь. Приходит раз в пекарню за хлебом старуха. Накупила старуха всяких булок, отдает деньги. Стал булочник считать, и попался один какой-то гривенник негодящий, фальшивый, булочник и не берет. Старуха в спор: деньги правильные. И видит булочник, не переспорить ему старуху, и говорит: — Да у меня, — говорит, — пес и тот узнает, что твой гривенник негодящий! — И сейчас же пса покликал, разложил деньги на стол кучкой, показывает псу, выбирай, мол, негодящую. Посмотрел пес на деньги, понюхал, да и выпихнул лапкой этот самый гривенник. «Ну и пес, — подумала старуха, — ой, что-то тут неладно!» — Коли пес, так и оставайся тут, — шепнула старуха, — а коли человек, за мной поди! — диковинным показалось старухе, что пес, а узнает деньги. И убежал пес за старухой из пекарни. Пришла старуха домой, да к своей дочке: — Привела, — говорит, — я пса, да уж и не знаю, верно ли, нет, что пес: узнает деньги! Посмотрела старухина дочка, посмотрела на пса, взяла воды наговорной, псу в глаза и плеснула. — Коли, — говорит, — ты пес, так и оставайся псом, а коли человек, обернись человеком! Тявкнул пес, и стал опять Сергей Сергеем. Рассказал Сергей о жене, о Настасье, и как ночью на кладбище Настасья покойника ела и с ней бородатый, и как псом его обернула. — Знаю Настасью, — сказала старухина дочка, — она у тебя колдунья, вместе мы с ней колдовству учились у одной старухи. Поперечная была Настасья, все наперекор, все по-своему, все напротив, не слушалась старуху, ей старуха и положила наказанье: ходить ей ночами на кладбище питаться мертвечиной. А хочешь жену поучить, дам я тебе наговорный состав, вернешься домой, плесни ей в лицо, увидишь, что будет. Поблагодарил Сергей старухину дочку, забрал наговорную воду-состав и пошел себе домой человек человеком.
Шел Сергей по дороге, — тут по дороге когда-то бежал он псом, лаял, — долго шел Сергей по дороге, а пришел домой, нет дома Настасьи. Сел Сергей на крыльцо, стал поджидать. И когда Настасья вернулась, он ей, ни мало не медля, наговорным составом в лицо и плеснул. Заржала Настасья и обернулась в кобылу. Тут Сергей запряг кобылу в сани да в лес, да в лесу целый воз дров навалил, да и обратно, домой ехать, и всю-то дорогу, до самого дому стегом стегал кобылу. И не раз, с неделю так ездил Сергей в лес за дровами, и все стегал, всю исстегал кобылу. А она — что со скотины возьмешь! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет. И жалко стало Сергею, бросил он бить кобылу, пошел в город к той самой старухе просить у старухиной дочки наговорного составу обернуть кобылу в человека. Старухина дочка дала наговорной воды, и вернулся Сергей домой не с пустыми руками. А она — известно, скотина! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет. И облил Сергей кобылу наговорным составом, и стала опять Настасья Настасьей. И уж с той поры забыла всякую мертвечину, кроткая, все ела, как люди. И стали они жить по-хорошему, хорошо и согласно. 1912
Подружки
Жили-были две подруги, одна другой подстать, Анюшка и Варушка. Анюшка у матери жила, Варушка одна через три версты от Анюшки: родители у Варушки померли. Дня друг без друга прожить не могли подруги: один день Варушка у Анюшки сидит, угощаются, на другой день Анюшка к Варушке пойдет, подругу почествовать. Так и гостились. — Без тебя мне, Анюшка, свет не мил. — От тебя, Варушка, никуда не пойду. Станут подруги прощаться, стоят-стоят, насилу разойдутся. А назавтра опять сошлись: либо Анюшка к Варушке, либо Варушка к Анюшке. Так и жили. — Без тебя, Анюшка, я жизни решусь. — От тебя, Варушка, никуда не пойду. Стали сватать Анюшку. Уперлась — в жизнь ни за кого не выйдет Анюшка, да мать настояла, старуха. И выдали замуж Анюшку за Андрея. Похорохорилась, пофыркала девка, а потом и свыклась: попался ей муж хороший, ладный.
Уехал Андрей в город. Осталась одна Анюшка. И задумала Анюшка подругу проведать: со свадьбы не видалась с Варушкой, соскучилась без подруги. Вышла Анюшка из дому, идет по дороге, а встречу ей девка с пирогом-именинами. — Куда пошла, Анюшка? — В гости к Варушке. — Не ходи ты к Варушке, не будет ладу. — Ну, вот еще, не впервой гостимся. И пошла Анюшка дальше, а встречу ей баба с полосканьем: на речке белье полоскала, домой несет. — Куда ты, Анюшка? — В гости к Варушке. — А не ходить бы тебе к Варушке, будет худо. — Что ты! Мне ли от нее худо! И пошла Анюшка дальше. Едет мужик с сеном. — Куда ты, Анюшка? — В гости к Варушке. — Не ходи ты к Варушке, Варушка людей ест. — Еще чего скажешь! И пошла Анюшка дальше, дошла до Варушки. И видит Анюшка, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья — глазам не верит Анюшка. Вошла на крыльцо, а тут рука лежит, — не хочет верить Анюшка. В сени зашла, а в сенях тулова да головы человечьи. Хочешь, не хочешь — поверишь. — Иди, иди в избу! — отворила дверь, кричит ей Варушка, — не ходи, не ходи! — машет руками. И зовет и не зовет подругу. Не в толку, не в уме вошла Анюшка в избу. Сидит Варушка под окном, — когда-то тут сиживали вместе подруги. — Садись и ты, Анюшка! — а сама так смотрит… неладно. И, как прежде, сидели под окном подруги. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели. — Я, Варушка, домой пойду, — спохватилась Анюшка, — не по-старому ты, не по-прежнему что-то. — Не ходи, Анюшка! — оставляет Варушка, а сама так смотрит… неладно. И опять сидели подруги, как прежде. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели. Поднялась Анюшка, хочет домой. Не хочет Варушка отпускать без ужина подругу. — Поужинаешь, тогда и пойдешь! — собрала на стол Варушка, принесла рыбник, — рыбник из перстов состряпан человечьих, угощает пирогом подругу. Анюшка рыбник не съела, за пазуху запихала. И не заметила Варушка. — Что, съела рыбник? — А там, у сердца, — показала Анюшка, будто все съела, и домой хочет, — прощай, Варушка. А Варушка молчит, так смотрит… — Отпусти меня, Варушка! — просит Анюшка: чует, не ладно. Молчит Варушка, так смотрит… неладно, а потом за руку как схватит Анюшку, за локоть и выше под мышку. — Нет уж, пришла, так и будем вместе! — и начала ее есть, да всю, всю-то Анюшку и съела.
Ночью из города вернулся Андрей, хватился — нет жены. Послал к матери, нет ее и у матери. — К Варушке ушла, — говорят Андрею, — видели! Всю ночь прождал Андрей, — не вернулась домой Анюшка. И чуть свет вышел Андрей и прямо к Варушке. Глядь, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья, на крыльце рука, в сени вошел, а там тулова да головы человечьи. Андрей назад домой, созвал старшин, объявил: Народу сошлось все село, всем селом пошли к Варушке, кто с чем. Окружил народ избу, приколотили железные рамы к окнам, забили дверь. А Варушка по горнице скачет, ой, как скачет! Поскакала там, поскакала, и затихла. Посмотрели в окно, лежит, затихла. Тут натащили хворосту, принесли огня, подпалили хворост, — занялся огонь, да и сожгли избу. 1911
Красная сосенка
Жил-был богатый мужик, и было у мужика три дочери: умные две, а третья дурочка. Собрался отец в город на ярмарку, старшие и говорят: — Купи, — говорят, — тятя, нам по калошам. — А мне купи сосенку! — дурочка просит. Поехал отец в город, побывал на ярмарке и вернулся домой с покупками, привез, что велели: старшим умным — калоши, младшей дурочке — сосенку. Сам смеется: — Куда ты, — говорит, — ее денешь, печку топить? А дурочка взяла сосенку, снесла сосенку на огород, там и посадила. Днюет и ночует дурочка около своего деревца. Сосенка растет, дурочка растет. Износили умные сестры свои новые калоши, повесили осьметки на огороде воробьев да сорок пугать, а у дурочки сосенка выросла высокая, стройная, не простая: постучишься — дверка раскроется, в домик войдешь — сундуки стоят, в сундуках наряды — да такие, как у царицы самой. Только про это никто не знает, одна дурочка знает. А жил неподалеку от деревни князь. Отец у него помер, и задумал князь жениться. Сколько стран, сколько государств он объехал, а нигде не мог найти себе по сердцу. И стал князь собирать народ со всех сел и со всех деревень: «Авось, — думает, — найдется, придет ко мне моя суженая!» Выпросились у отца умные сестры, разрядились идти на пир к князю. — И меня возьмите! — дурочка просится. — Куда тебе, народ пугать! — не взяли ее сестры, одни ушли. Пошла дурочка на огород к своей сосенке, постучалась в сосенку — раскрылась дверка и очутилась дурочка в домике. Убралась там, оделась — узнать нельзя, царевна настоящая. А как вышла из домика и затворилась дверка, откуда ни возьмись тройка — заливаются, звенят колокольчики. Села дурочка и поехала на пир к князю. Много красавиц собралось у князя на пиру, на вечере, и одна была всех краше — дурочка. Князь не отходил от нее, угощал ее, а выведать не мог, кто такая она. И никто не узнал дурочку, сестры не признали сестру, а сама о себе она никому не открыла. Вот и придумал князь: как идти дурочке домой, велел он порог вишневым клеем вымазать, а сам пошел до сеней провожать. Ступила дурочка на порог, туфельку и оставила. А на другой день пустились княжие слуги по деревням разузнавать, кто потерял туфельку у князя на вечере. Заехали и на дурочкин двор. Спросили умных сестер, дошла очередь спросить и дурочку — сидела дурочка на печке рваная, сажей испачканная. — Твоя туфелька? — смеются ей княжие слуги, и сестры смеются, и отец. — Моя, — говорит дурочка, а сама с печки да на огород. Обрядилась дурочка у своей сосенки, убралась, как царевна, вернулась в дом. И все диву дались: уж такая красавица — сосенка красная! Тут приехал сам князь, свадьбу сыграли, и стала дурочка княгинею, и стали они жить-поживать да добра наживать, князь молодой с княгинею. 1910
Кумушка
Жила-была старушка Кондратьевна, смолоду была Кондратьевна приметлива да говорлива, а под старость, хоть глазом и ослабела, а еще зорче видела, и хоть один зуб торчит, а и сам говорун речистый не переговорит ее шамканья. И была у Кондратьевны кумушка, — с одной ложки ели и пили, подружка. Старые старухи на печи лежат, старые старухи охают, а подружки сойдутся вечерок посидеть, до петухов сидят, да и век бы сидеть, разговаривать. Подружка кумушка и померла. И осталась на свете жить одна Кондратьевна. Богомольная была Кондратьевна, к службам очень любила ходить. Все приметит Кондратьевна, все высмотрит: и кто как стоит, и кто зевнет, и кто кашлянет, и на ком что наряд какой, — ничего не упустит старуха. А порассказать-то уж и некому, нет больше кумушки, да и самой послушать нечего, не заговорит больше кумушка. Без кумушки скучно Кондратьевне, ляжет старуха на печку, время спать — не спится, и лежит так, тараканьи шкурки считает. Лежит так Кондратьевна, шкурки тараканьи считает, не спится старухе, вспоминается кумушка. И слышит раз Кондратьевна среди ночи звон в церкви гудит. Встала с печки да в церковь. А церковь — полна покойников: в саванах стоят покойники, и все одинаковые, не видно лица, не разберешь, кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летом. И как ни всматривается Кондратьевна, — все одинаковые, стоят в своих саванах. А кумушка знакомая, подружка Кондратьевны, сняла с себя саван и говорит: — Нынче мы молимся, упокойники, а не вы, уходи, да чтобы не слышал никто, не сказывай! Ушла домой Кондратьевна: не будет она мешать покойникам, еще чего доброго и съедят ее, всю-то схряпают вместе с косточками. И целый день крепко держала старуха свой полунощный зарок. Но когда среди ночи опять услышала звон, охота посмотреть покойников отогнала всякие страхи. Встала старуха с печки да скорее в церковь: кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летом, — все она высмотрит, до всего дойдет. И опять ее кумушка, подружка знакомая, уходить ей велела. Три ночи кряду ходила Кондратьевна в церковь, три ночи прогоняла ее домой кумушка. На четвертую ночь Кондратьевна не услышала звону, на четвертую ночь у дверей стал покойник. Молча в саване стоял у дверей покойник, пугал Кондратьевну. И на следующую ночь опять у дверей стоял покойник, пугал Кондратьевну. «Кто — Иван или Марья? Когда умерший — нынче или летось? Зачем пришел? Что ему надо?» — хочется старухе все разузнать, а как разузнаешь, — не говорит, помалкивает покойник, только пугает. И домекнулась Кондратьевна. Еще засветло покрыла она стол скатертью, под стол петушка пустила, чтобы в полночь спел петушок, — мало ли что! — сама влезла на печку, легла ночи ждать. Лежит Кондратьевна на печке, шкурки тараканьи считает, ждет ночи, ждет покойника. И пришла ночь, стал ночью у дверей покойник. Увидела его Кондратьевна да скорее с печки, манит к столу. Уселся покойник за стол и говорит: — Съем я тебя! И зачем ты повадилась ходить к нам в непоказанный час, терпенья нет моего! — да саван с себя долой. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|