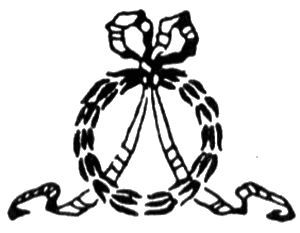|
|
Царь Соломон и царь Гороскат 13 главаСидит Мамыка в канаве, на дорогу глазеет, а по дороге царские слуги идут, быка ведут. «Вот бы такого бычка деду, нет у деда никакой скотины!» — смекнул себе Мамыка. Скрылись царские слуги и бык с ними. Вылез Мамыка из канавы, обежал сторонкой, бросил сапог на дорогу, сам схоронился и стал поджидать. Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге. — Эх, товарищ, — говорит один, — сапог козловый на дороге! — Никуда нам с одним сапогом! — говорит другой. И пошли себе дальше, повели быка в город. Тут Мамыка подобрал свой сапог да мимо царских слуг, обогнал их сторонкой, бросил опять сапог на дорогу, сам схоронился, поджидает. Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге. — Вот и другой сапог, — говорит один, — взять бы нам и тот, пара б сапогов была. — Пойдем назад, — говорит другой, — захватим, авось, не убежит. Оставили царские слуги быка царского, пошли назад прежний Мамыкин сапог искать. Тут Мамыка, долго не думая, за быка, да другой дорогой с быком домой к деду. А царские слуги дошли до того самого места, где сапог Мамыкин лежал, а сапога-то уж нет. Поискали они, поискали, да с пустыми руками назад к быку, а там и быка нет, всего один сапог лежит Мамыкин. Куда им с одним сапогом? — Как мы теперь к царю на глаза покажемся: и быка кончили и сапог один! Подобрали царские слуги Мамыкин сапог, и без царского быка с сапогом пошли к царю. — Вот, — говорят, — вам сапог, а быка потеряли. Увел быка неизвестно кто. Примерил царь сапог, — хорош сапог и сидит хорошо и в пальцах не жмет, да об одном сапоге далеко не уйдешь, да и быка нет. Ну, по сапогу стали искать и дознались, что сапог Мамыкин и увел быка Мамыка. И посылает царь к деду, требует к себе старика. Пришел старик, кланяется. — Здравствуйте, государь батюшка. — А много ль у тебя семьи, дедушка? — спрашивает царь. — Один внук, государь батюшка, один единственный, Мамыкой звать. — А не украл ли твой Мамыка у царя быка? — Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого намедни пригнал, едва во дворик прошел. — Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка украдет у царя коня, а не украдет, казнь ему! Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой. Скручинился, спечалился старик: легкое ли дело у царя коня украсть! А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает. — Глупый ты, — охает дед, — наделал ты дел! — Чего, дедушка, ну, чего, дедушка? — унимает парнишка, шустрый такой, Мамыка. — Да вот чего: велел царь своего коня украсть, не то тебе казнь. — Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится, — смеется парнишка, проворный такой, Мамыка.
Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи, и в ночи потащился в город, и прямо ко дворцу. Царя во дворце не было, в Сенате сидел царь, законы сочинял. А Мамыке это на руку, проник Мамыка в царские покои, обрядился в царское платье, да в царском-то платье на крыльцо. — Эй, — кричит, — коня, коня давайте, в сады поезжаю гулять! Засуетились слуги, забегали и сейчас коня ему подали, — спросонья за царя признали, обознались! Сел Мамыка на царского коня и домой к деду. Приехал Мамыка к деду, кричит старику: — Отворяй, дедушка, ворота! — смеется. Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил коня. — Слава Богу, спас Господь от беды! — плачет старик: рад очень, что с конем-то внук, царского коня украл. Вернулся царь из Сената, велит коня подать — в сады гулять ехать, а коня его царского нет как нет, укатил на его коне неизвестно кто. «Это, верно, Мамыка, некому больше, вор Мамыка!» — раздумался царь. И посылает наутро царь к деду, требует к себе старика. Пришел старик, кланяется. Поздоровался царь с дедом и говорит: — А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя коня? — Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого пригнал, едва в домишко прошел. — Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка из-под царя перину украдет, тогда я прощу, а не то ему казнь! Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой. Скручинился, спечалился старик: легкое ли дело из-под царя царскую перину украсть! А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает. — Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, жизнь свою решишь! — Да чего, дедушка, чего ты? — унимает парнишка, проворный такой, Мамыка. — Да вот чего: велел царь царскую перину из-под себя украсть, не украдешь, — дело плохо. — Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится! — смеется парнишка, хитрый такой, Мамыка.
Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи потащился в город и прямо на кладбище. И там, на кладбище, отыскал он свежую могилу, разрыл могилу, достал покойника из гроба, посадил покойника на кол и понес на плече ко дворцу, к тем самым покоям, где царь ночует. Стал Мамыка перед царскими окнами и ну вертеть покойником. Царь не спал и не ложился, поджидал царь Мамыку: придет вор царскую перину из-под него красть, тут он его и словит. И как увидел царь, что ровно человек в окно лезет, скорее за ружье да из ружья в окно и выстрелил. — Ну, — говорит царь царице, — подстрелил я Мамыку, не встать больше вору, можно будет спокойно выспаться. А Мамыка простреленного покойника бросил да по задним ходам залез в царские покои, отыскал там квашонку с белым раствором, прокрался к самому царю, да тихонько раствор этот белый между царем и царицей в середку и полил, а сам в темный угол, присел на корточки, ждет. Спал царь крепко, а проснулся да со сна прямо рукой в это тесто. «Эка, грех-то какой, все себе пальцы измазал!» Крикнул царь слуг, всех слуг разбудил. — Снимай перину, стели новую! А царские слуги подскочили, тычутся, нежными голосами так и ластятся: — Пожалуйста, сейчас! сейчас! И сейчас же свежая перина готова, ту замаранную сняли, постелили новую. И заснул царь. А как заснул царь, вышел Мамыка из темного угла, подхватил старую запачканную перину да в окошко, спихнул перину на улицу да и сам за ней туда же, взвалил ее на плечи, понес домой к деду. — Отворяй, дедушка, ворота! — громыхает Мамыка в ворота. Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку с царской периной. — Слава Тебе, Господи, миновала беда! — плачет старик: рад очень, что с периной-то внук, царскую перину украл. Наутро, как проснулся царь, и первым делом о перине: — Где замаранная перина? А где замаранная перина? — туда-сюда, никто не знает, нет нигде перины и искать негде. Заглянул царь в окно, а там, на улице под окошком, покойник на колу, лежит покойник, простреленный и нет никакого Мамыки. Шлет царь за стариком дедом. Пришел старик, кланяется. Поздоровался царь с дедом и говорит: — А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя перину? — Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую приволок, едва в угол запихал. — Хитер у тебя внук, — сказал царь, — пускай же Мамыка у царя царицу украдет, а не то голову на плаху, жизни решу. Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой. Еще больше скручинился старик, еще больше спечалился, пути перед собой не видит: легкое ли дело у царя царицу украсть! А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает. — Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, пропали мы с тобой! — Чего, дедушка, ну, чего, дедушка? — унимает парнишка, хитрый такой, Мамыка. — Да вот чего: велел царь царицу украсть, не украдешь, голову на плаху. — Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится! — смеется парнишка, смекалистый такой, Мамыка.
Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи заложил царского коня в санки и помчался прямо во дворец. Царя во дворце не было, в Синоде сидел царь, приказы давал. А Мамыке только того и надо. Кличет Мамыка царских слуг, будто царь за царицей прислал. — Требует царь царицу в сады гулять, немедленно! Доложили царские слуги царице. Оделась царица, вышла на крыльцо, видит: конь царский, да и села в санки к Мамыке. И помчал царицу вор Мамыка, да не в Синод к Царю, а к себе, к своему деду. — Отворяй, дедушка, ворота! — кричит вор Мамыка. Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку, впустил с Мамыкой и царицу. — Слава Богу, услышал Господь, спас! — плачет старик: рад очень, что с царицей-то внук, царицу украл. И царица плачет: страшно ей вора Мамыку, жалко ей деда. Вернулся царь из Синода, спрашивает царицу. — Нет царицы, — отвечают царские слуги, — поехала царица в сады гулять, сам ты и послал за ней. — Когда посылал? — ничего царь понять не может. — Да из Синода, — говорят царю слуги. — Как так? — Да так. Никто ничего толком не знает, друг на дружку валят. «Это все вор Мамыка!» — раздумался царь. И велит царь привести старика деда. Бросились за дедом, привели старика. Усадил царь старика и говорит: — А не украл ли твой Мамыка у царя царицу? — Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую красавую в дом привел, такую барыню. — Хорош твой внук, дедушка, — сказал царь, — шустер парень, проворен, смекалист! Пускай же он все наворованное царю представит: быка, коня, перину и нашу царицу. Все дела ему прощаем, всю вину снимем, получит награду. Побежал старый дед домой, а уж Мамыка ему навстречу, а с Мамыкой царский бык, царский конь, царская перина и сама царица. И остался Мамыка у царя служить царю верой, верный слуга Мамыка. Подчистил Мамыка царских слуг ротозеев, всех воров переловил, а деду, старику своему, у царя звезду выхлопотал, и звезду, и коня, и коровушку, чтобы жили старики покойно. 1911
Хозяева
Леший
Леший живет в лесу, леший живет в большой избе. Изба у него кожами укрыта, теплая. Леший не старик старый, какой старик! — леший молодой, и ни усов еловых, ни бороды осочьей у него нету. Желтый зипун на нем, красная теплая шапка, а жена его — лешачка, а дети — лешата, полное хозяйство. Был такой Афоныга, неладный, все бродил по лесу, лешней жил. Вот идет Афоныга лесом, дошел до болота — топучее болото — и видит, увяз леший в болоте, да и олень, да и медведь с ним. Не больно речист леший, а как заговорил! — Иди, — говорит, — Афоныга к моей хозяйке, да скажи ей, на большом, мол, болоте со зверем сохатым, да с медведем Мишей утоп! — и дорогу кажет Афоныге, куда идти ему к лешачке. Пошел Афоныга, пошел, как указал леший, и прямо к большой избе. Входит Афоныга в избу — сидит лешачка на лавке. — Зачем пришел, Афоныга? — говорит лешачка, баба молодая, белая, глаз с поволокой. Афоныга ей о лешем, о сохатом, о медведе Мише. — На большом болоте утопли! — Ну, ладно! — бросила лешачка Афоныгу, да из избы, да скорее к большому болоту. Ждать недолго ждал Афоныга, а страху натерпелся немало: одолели Афоныгу лешата — цепляются, курлычут, хватают, ну, ничем не отобьешься, ни шлепком, ни подшлепником. И вернулась лешачка, несет медведя Мишу — баба молодая, белая, глаз с поволокой, а за лешачкой сам леший с оленем. На славу угостили гостя. Леший указал дорогу и на прощанье отодрал рукав от своего кафтана и дал его Афоныге. А Афоныга, домой вернувшись, сшил себе из рукава кафтан — кафтан до пят, да рукавицы.
Водяной
Водяной живет в озере, там у него и дом под камнем. Водяной не очень великий, даже маленький, черноватый, на черта похож, а ус у него рыжий. Жена его из русалок — водяниха, Палагеей звать. Поля, а ребятишки — водяники, вроде чертенят, только что на пальцах перепонка. Держит водяной коров много бурых, — большое хозяйство. За большим болотом на круглом озере остров, и не раз видали, как из воды на остров выходили коровы и траву щипали, видали и самого водяного: сядет себе на камень и сидит, медным гребнем расчесывает свои крепкие лохма. Ходил по лесу Афоныга — Афоныге что и делать, как в лесу бродить! и зашел Афоныга к круглому озеру за большое болото, уморился, прилег на траву отдохнуть да и заснул. А как проснулся, и видит: четыре бурых коровы на острове пасутся. Положил Афоныга на себя крест да прямо на коров этих… И только что ухватить корову наметил, из воды как свистнет — озеро заволновалось, и коровы в воду. Ну, Афоныга не больно испугался, не сплошал, и как-никак, а двух коров перенять ухитрился, и пригнал домой к себе в лес. И долго жили у Афоныги эти коровы, по два ведра в день молока давали, вот какие коровы! Разбогател Афоныга, разбурел, опился молоком сладким, пьет — не лезет, и уж бродить по лесу не может, совесть и заговорила. Стало беспокойно Афоныге, все не так, все не так как-то, не по-настоящему, не по правде. И вздумал Афоныга этих коров зарезать. И зарезал. Ввечеру зарезал, а наутро хвать, ни мяса, ни шкур, и мясо, и шкуры украл кто-то, нет ничего. Досадно стало Афоныге — ни молока ему, ни коров, ни мяса ему, ни шкур коровьих — ничего. Как не досадно! Думал Афоныга, думал и подал в суд: на соседа думал — вороватый такой сосед жил Мамыка. И пока Афоныгино дело в суде тянулось, подошла осень, а у Афоныги не выходят из головы коровы, не может забыть коров: нет-нет да и вспомнятся они ему, бурые, сытые — два ведра в день молока давали. Сидит раз Афоныга вечером, раздумывает, и все о коровах, а на воле так и шумит и шумит — осень. И слышит, стучит кто-то. Афоныга к воротам, отворил калитку и видит: так, не очень великий, даже маленький, черноватый такой, ус рыжий, в коротком камзоле, а шляпа соломенная, стоит у ворот, на Афоныгу смотрит. — Напрасно, — говорит, — ты, Афоныга, из-за коровьих кож с соседом тягаться вздумал — кожи я взял! — сказал и пошел, ходко пошел к озеру. Афоныга его сейчас же признал — водяной, конечно! — и помирился с соседом, прекратил тяжбу с Мамы-кой, и по-старому, по-прежнему в лесу бродит, лешней живет. 1912
Лигостай страшный
Жил-был добрый человек, и Бога чтил, и людей не забывал: Богу — свечка, бедным людям — хлеб. И жил так добрый человек с женою и сыном, не роптал. И вот померла жена, заскучал старик без хозяйки, стал прихварывать и почувствовал, что и его конец приходит. Говорит старик сыну: — Нечего мне тебе оставить, нет у меня ничего: что зарабатывал — все проживали. А вот как помирать твоей матери, пекла она калач, калач подгорел, но я его сберег — оставляю тебе горелый калач. Съешь ты его с тем моим другом, который никакой скупы не берет. Помер добрый человек, похоронил сын отца. Какие оставались деньги, все на похороны пошло. И уж ничего в Доме нет, хоть шаром покати, а есть хочется. Вспомнил тут Сергей об отцовском наследстве — о калаче, отыскал горелый калач, хочет его закусить, да слова отца стали в памяти: съесть калач с тем другом его, который прибыли себе не берет, — положил калач за пазуху и пошел отцова друга искать. Идет Сергей по дороге, и встречается ему старичок белый, седатый. — Куда, — говорит, — молодец, Бог несет? — Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет, — и рассказал Сергей старику об отцовском горелом калаче. — Я отцов друг. Посмотрел Сергей на отцова друга: старичок бел седатый, с церковкою в руке. — Нет, ты — святитель Христов, Никола Угодник! — поклонился угоднику можайскому и дальше пошел. Идет Сергей по дороге, и едет навстречу ему всадник на белом о белых крыльях коне, золото так и играет. Испугался Сергей, хочет в сторону свернуть. А всадник кричит: — Куда, молодец, Бог несет? — Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет, — и рассказал Сергей всаднику об отцовском горелом калаче. — Я отцов друг. Посмотрел Сергей на отцова друга: по локоть руки — красно золото, по колено ноги — чисто серебро, во лбу звезда, на голове зеленый венок. — Нет, ты — храбрый святой Георгий! — поклонился пастырю святому и дальше пошел. Идет Сергей по дороге, устал, и ночь его настигает, и есть ему хочется. И попадает ему на дороге страшный, высокий, грудь и бедра толстые, в поясе тонкий, длинные пальцы, зубатый, ребратый, голенастый, лигостай — страшный. — Ты куда идешь? — скорчил рожу лигостай страшный. — Иду Отцова друга искать, который никакой скупы не берет. — Я самый и есть! Посмотрел Сергей на отцова друга: лигостай страшный. — Почему, говоришь, отцов ты друг? — А потому, я у отца душу вынул. «И вправду, — подумал Сергей, — точно, что друг, только больно уж страшный!» Вынул Сергей из-за пазухи горелый калач, уселись они на пень, съели калач. Лязгнул зубами лигостай страшный. — Поди, — говорит, — в город, тамошний царь худ, ищет человека, про свою смерть знать хочет. Поди ты к царю и скажи, что знаешь про его царскую смерть. Меня никто не видит, а ты увидишь. Я без корысти, я отцов друг! Если сижу я в головах у царя, царь помрет; если стою я в ногах, царь будет жить. Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в город, ну трубить: — Я, — говорит, — про царскую смерть знаю! Дошла весть до царя, послал царь разыскать Сергея. Нашли Сергея и привели к царю. Помолился Сергей, посмотрел на царя: лежит царь на кровати, едва уж дышит, а лигостай стоит в ногах у него страшный, рожу корчит. Поклонился Сергей царю: — Трудно хворали, ваше царское величество, тяжело, да Господь даст здоровья, будете живы. И стало царю полегче, потом совсем легко, а потом и вовсе поправился и позабыл про всякую хворь. На радостях царь наградил Сергея крестом и велел насыпать ему из государственной казны полный мешок золота. Нацепил Сергей крест себе на шею, забрал под мышку золото, поблагодарил царя и пошел из города домой: хватит ему на его век да еще останется! Идет Сергей дорогой, застигла ночь, присел Сергей на пень отдохнуть, а лигостай тут — страшный стал у пня. — А, — говорит, — здорово, Сергей Иваныч! — Здравствуй, страшный! — Много ль собрал? — Эво сколько, доверху полный! — Сергей показал страшному золотой свой мешок. — Ну, не очень-то… — лигостай тряхнул мешком, — фальшивые! Иди ты в другую землю, там тоже царь худ, скажи, что про царскую смерть знаешь. Буду я в головах сидеть, и ты скажи царю: не будет ему житья, смерть будет. А ему трудно, он только этого и хочет, смерти хочет. И он наградит тебя: царем вместо себя поставит. И ты будешь царствовать тридцать лет. Знай: в который час корону примешь, в тот же самый час через тридцать лет и помрешь. Помни! Приготовься! Я приду. Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в ту землю, где царь хворал. — Я про царскую смерть знаю! — трубит Сергей. Узнали, кому следует, Сергея схватили да к царю. Привели Сергея к царю, и уж на пороге видит Сергей: страшный расселся лигостай у царского изголовья, рожи корчит. — Ваше царское величество, помрете! А царь корону с себя снял да на Сергея. — Царствуй, добрый человек, спасибо тебе! — и помер. Помер царь, сел царем Сергей. Хорошо царствовал Сергей и все дела государские исправлял верно. Тихо, мирно, было в его царстве. Богатели купцы торговлей, мужики много сеяли хлеба, — земли было вволю, собирали и того больше, и было где скоту кормиться, лугов было вдоволь, разбойники сидели за крепким караулом, никто не жаловался. Все в делах, все в заботах, и не заметил царь, как прошли годы, и наступил тридцатый, последний его год. «Ах, — схватился царь, — лигостай придет!» И такая напала тоска на него, такая долит печаль, невесело, неважно все, не занимают дела. «Лигостай придет, страшный придет!» — печалился царь. И от печали разнемогся, и ничего уж не помогает, одно на уме: «Лигостай придет!» Наступили последние сутки, пришел последний час. И кончились последние минуты, осталась всего одна последняя минута. «Пойду в сады мои, прощусь…» — царь встал и к двери. А на пороге лигостай. — Чего ты, — говорит, — куда собрался, Сергей Иваныч? — сам рожу корчит. — В сады мои проститься, хочу проститься… — А ты чего же раньше-то? Я же тебя предупреждал, — лигостай взял под руку царя, — ну, пойдем! И они ходили вместе по саду, как два друга, мертвый царь да лигостай страшный. Царь все прощался. И не было куста, не было деревца, с кем бы Царь ни простился. Со всем белым светом простился царь и говорит: — А что, страшный, как я помру, будут по мне плакать? А лигостай как скорчит рожу. — Ревут, — говорит, — третий день ревут, уж третий день, как ты помер: в ту самую минуту, у порога, как встретились мы, ты и помер! Спасибо за любительский калачик! Лигостай лязгнул зубами, страшный, отвел свою бескорыстную страшную руку, и остался царь один, не царь — душа человечья. 1911
Хлоптун
Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться. Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой. Трудно было одной Марье. Кое-как год она перебилась, к осени полегче стало. Ждет мужа — нет вестей от Федора. Ждать-пождать, — не едет Федор. Да жив ли? А тут говорят, помер. Бабы от солдата слышали, что Федор помер. Ну, Марья в слезы, убивается, плачет. — Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок! — так Марья плачет, так ей скучно. Прожила она в слезах осень, все тужит: без мужа скучно. А Федор вдруг на святках и приезжает. И уж так рада Марья, от радости плачет: вот не чаяла, вот не гадала! — А мне говорили, что ты помер! — Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы! И стали они жить да поживать, Федор да Марья.
Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа — век вместе жили. Все попрежнему шло, как было. Все… да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось: «А что, как он мертвый?» Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою, а он, чтобы идти к покойнику смотреть, нет, никогда не пойдет. Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала — покойник-то очень уж богатый был — насилу уговорила. И пошли, вместе пошли. Приходят они туда в дом, где покойник: покойник в гробу лежал, лицо покрышкой покрыто. Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника. Тут и все потянулись: всякому охота на покойника посмотреть. С народом протиснулась и Марья. Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается. «И чего же это он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало. Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой. Дорогой она его и спрашивает: — Чего ты, Федор, смеялся? — Так, ничего, я… — не хочет отвечать. А она пристает: скажи, да скажи. Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит: — Вот как покрышку сняли с него, а черти к нему так в рот и лезут. — Что ж это такое? — А хлоптун из него выйдет. — Какой хлоптун? — А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто, и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной и за людей принимается. И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее. — А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья. — А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-оборот и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет. Вернулись они домой, легли спать. Заснул Федор. А Марья не спит, боится. «А что если он хлоптун и есть?» — боится, не спит Марья, не заснуть ей больше, не прогнать страх и думу. Куда все девалось, все прежнее? Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего. Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется. Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел. «Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а лотом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной за людей принимается!» — и как вспомнит Марья, так и упадет сердце. И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх. — Не сын ваш Федор… хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе. — Как так? — Так, что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала — последний год живет, кончится год, съест он нас. Испугались старики: — Съест он нас! Всем страшно, все настороже. И стали за Федором присматривать. Глядь, а он уж на дороге коров ест. Обезумела Марья, трясутся старики. Достали они от жеребца узду-оборот, подкараулили Федора, подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут… Упал Федор. — Сгубила, — говорит, — ты меня! — да тут и кончился. Тут и все. 1911
Мертвец
Лежал мертвец в могиле, никто его не трогал, лежал себе спокойно, тихо и смирно. Натрудился, видно, бедняга, и легко ему было в могиле. Темь, сырь, мертвечину еще не чуял, отлеживался, отсыпался после дней суетливых. Случилось на селе о праздниках игрище, большой разгул и веселье. На людях, известно, всякому хочется отличиться, показать себя, отколоть коленце на удивленье, ну, кто во что, все пустились на выдумки. А было три товарища — три приятеля, и сговорились приятели попугать сборище покойником: откопать мертвеца, довести мертвеца до дому, а потом втолкнуть его в комнату, то-то будет удивленье: сговорились товарищи и отправились на кладбище. На кладбище тихо, — кому туда на ночь дорога! — высмотрели приятели свежую могилу и закипела работа: живо снесли холмик, стали копать и уж скоро разрыли могилу, вытащили мертвеца из ямы. Ничего, мертвец дался легко, двое взяли его под руки, третий сзади стал, чтобы ноги ему передвигать, и повели, так и пошли — мертвый и трое живых. Идут они по дороге, — ничего, вошли в село, скоро и дом, вот удивят! Те двое передних, что мертвеца под руки держат, ничего не замечают, а третий, который ноги переставлял, вдруг почувствовал, что ноги-то будто живые: мертвец уж сам понемножку пятится, все крепче, по-живому ступает ногами, а, значит, и весь оживет, оживет мертвец, будет беда — да незаметно и утек. Идут товарищи, ведут мертвеца — скоро, уж скоро дом, вот удивят! Ничего не замечают, а мертвец стал отходить, оживляться, сам уж свободно идет, ничего не замечают, на товарища думают, которого и след простыл, будто его рук дело, ловко им помогает. Дальше да больше, чем ближе, тем больше, и ожил мертвец — у, какой недовольный! Подвели его товарищи к дому, в сени вошли. А там играют, там веселье — самый разгар, вот удивят! — А Гришка-то сбежал, оробел, — хватились товарища, и самим стало страшно, думают, поскорее втолкнуть мертвеца да и уходить, — Гришка сбежал! Открыли дверь — вот удивятся! — хотят втолкнуть мертвеца, а выпростать рук и не могут, тянет мертвец за собой. А правда, в доме перепуг такой сделался — признали мертвеца — кто пал на землю, кто выскочил, кто в столбняке, как был, так и стал. Тянет мертвец за собой, и как ни старались — рвутся, из сил выбиваются, держит мертвец, все тесней прижимает. — Куда ж, — говорит, — вы, голубчики, от меня рветесь? Лежал я спокойно, насилу-то от Бога покой получил, обеспокоили меня, а теперь побывайте со мной! Совсем как все, говорит, только смотрит совсем не по-нашему! Нет, не уйти от такого, не выпустит, — совсем не по-нашему! Собралось все село смотреть, а эти несчастные уж и не рвутся, не отбиваются, упрашивают мертвеца, чтобы освободил их, выпростал руки. А он только смотрит, крепко держит, ничего не сказывает. Стал народ полегоньку отрывать их от покойника, не тут-то, кричат не в голову, что больно им. Ну, и отступился народ. Отступился народ, говорят, что надо всех трех хоронить. И видят несчастные, дело приходит к погибели, заплакали, сильней умолять мертвеца стали, чтобы освободил их. А он только смотрит, еще крепче держит, ничего не сказывает. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|