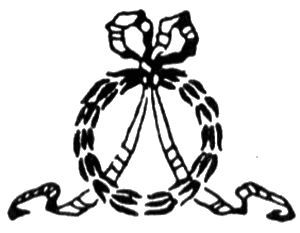|
|
Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе 1 глава
Шишок
Если другой раз и человека нипочем не берет пуля, то против нечистой силы что плевок, что пуля. Стояли солдаты в земле не нашей, очереди дожидались и заскучали, стоявши. Вот он и задумал подшутить над ними. — Стреляйте, — говорит, — в меня, сколько влезет, мне ничего не будет! — и стал сам мишенью. Ну, и выискались охотники, нацелятся — выстрелят, а он сейчас же пулю из себя, и несет тому, что стрелял. Диву давались солдаты. А был один старичок в обозе, — угодники-то нынче, слышно, все туда, на войну ушли! — и говорит старичок солдатам: — И чего вы, други, мудрить над собой даетесь, да и добро попусту изводить грешно! — А как бы нам, дедушка, его осилить? — А очень просто, — старичок-то все знал, — только зря не годится: отместит, окаянный. Стали приставать к старику, скажи да скажи. А уж шишок, видно, сметил и что-то не слышно стало. Старичок и открыл тайность. — Очень просто: пуговицу накрест разрежь, заряди ружье и стреляй, — завертится! Ну, схватились было искать, туда-сюда… А тут такое пошло, не до того, уж: вдруг повалил настоящий, гляди, не зевай, — силища страсть, и откуда только берется, так и прет. Да Бог дал, из беды вышли. Отстал от товарищей Курин, из третьей роты, не завалящий солдат, во! — папироску закуришь. Туда пойдет, нет дороги, повернет в сторону, — и того хуже. Так и пробирался на волю Божью, а уж едва ноги волочит, ой, пришлось туго! Бредет Курин мимо пруда и видит: сидит на плотине… узнал, он самый, ногами в воде бултыхает, а рожу на Курина, язык высунул, дразнит: — Что, мол, ничего, солдат, не сделаешь! И так это Курину досадно стало, вспомнил он старичка, про что старичок-то сказывал, подошел поближе к плотине, живо отхватил пуговицу, зарядил ружье, прицелился да как трахнет. Так того в прах. — Ага! — словно обрадовался кто-то. Только и услышал Курин, ноги соскользнули. И сказывали, без вести солдат сгинул. 1915
Урвина
Девки устроили с парнями вечеринку. И началось не-ладом: одни девки своих парней больше пригласили, чтобы любы им были, а тех не пригласили, которые другим были любы, ну, и разожглись друг на друга. И хоть с виду и помирились, и пошло, как ни в чем, веселье — пляс и смешки, и хихиньки, да в сердце-то затаили. Одни девки своим парням песни поют, другие — своим, парни пьют да девок пот' уют. А как подпили, уж все перемешалось, только стон стоит. И чего-чего не вытворяли, на какие выдумки не пускались, а все будто мало. Тут сердце-то и заговорило: одна обиженная девка и пришепни счастливой, а той — море по колено. Подговорила та свою подругу, оделись, да тихонько из избы и вышли. И — ведь что придумать! — на кладбище пошли девки, вынули там двух мертвецов из общей могилы, завернули мертвецов в рогожи, да на своих косах и приволокли в избу, да за печку Их и поставили. А сидела на печке девчонка Машутка и все видела, — испугалась девчонка мертвецов-то, молчит, прижалась в уголок, сердешная. Девки вошли в горницу, посмеиваются, а никому и не вдогад, что там за печкой, какие такие гости пожаловали. Уж стали мертвецы пошевеливаться. — Что, брат, разогреваешься? — Разогреваюсь, брат. — И я, брат, разогреваюсь. Машутка-то на печке не пикнет, а вся изба, ей горя нет, пляшет, ой, весело! В самую полночь девка обиженная, что на такое дело надоумила, и говорит подругам счастливым: — Спойте вашим молодцам песенку, да повеселей, плясовую! — сама подмигивает: понимай, каким молодцам запечным! Девки и запели песню веселую. И проняла до сердца мертвецов песня: мертвецы вдруг стали огненные, как головни горящие, языки высунули, изо рта пламя пошло, жупел, а сзади вытянулись, помахивают собачьи хвосты. Как их в песне-то стали величать, как они из-за печки-то выскочат, да в горницу, и давай плясать по-своему и кривляться, и ломаться, и кувыркаться, да девок и парней лягать, пламенем, жупелом палить, да за бороду, да за косы рвать. Куда тебе и хмель вон, ноги подкосились: кто где стоял, так тут ничком и грохнулся. А мертвецы, знай, пляшут, не могут стать — дали им волю, и рады бы, не могут, пляшут — половицы вон из полу летят, посуда прыгает, все вдребезги, все в черепки. До петухов мертвецы плясали и, как запел петух, так сквозь землю и провалились, инда земля застонала. Поутру пришел народ, смотрят — кто без головы, кто без руки, кто без ноги, кто без бороды, кто без косы, и все мертвы, а посреди избы — урвина, сама бездонная, дна не достать. А Машутку сняли с печки, едва откачали девчонку: и! напугалась-то как, сердешная! Машутка про все и рассказала.
Кабачная кикимора
Кабак стоял на юру у оврага, овраг осыпался, и кабак чуть лепился на овраге. Дважды в неделю в селе были большие базары, и в кабаке шла большая торговля. Да целовальник не долго сидел в кабаке, живо проторговывался: находили недочет, а, главное, большую усышку вина и рассиропку. В откупной конторе много было толку о кабаке, и странно было, что все целовальники рассказывали одно и то же, как ровно в полночь кто-то в кабаке вино цедит, когда же зажигали свечку, видели вроде хомяка — хомяк бег от бочки и прямо под пол, в нору. Кабак перестали снимать, и даже даром, без залогу, никто не снимал, кабак стоял заброшен. Один пьянчужка, не раз штрафованный и пойманный в приеме краденного, промотался и попал в большую крайность, а был он человек семейный, не глупый и отчаянная голова. Ему-то откуп и предложил кабак. Пьянчужка согласился: все лучше, чем ходить из кабака в кабак. В первую же ночь целовальник заготовил свечку, спичек, положил топор на стойку, выпил полуштоф и завалился спать. — Теперь хоть сам черт приходи, никого не боюсь! — и заснул.
И слышит целовальник, кто-то цедит из разливной бочки, зажег свечку, топор в руку, осмотрелся и — к бочке. Видит, печати целы и только кран полуотворен. Постукал топором в бочку — звук не тот, вина, стало быть, меньше; сорвал печать, накинул мерник, — так и есть: трех ведер как не бывало. — Черт что ли отлил! Коли черт, покажись! Я чертей не боюсь, до чертиков не раз допивался, не привыкать стать видеть вашего брата! — и уж протакаял так, как душе хотелось. Под полом, раздался треск — стала половица поворачиваться, и стало из-под пола дерево вырастать. Все растет и растет — сучья, ветви, листья, и все выше и шире, уж закрывают кабак и склонились над головою. Целовальник взмахнул топором и ну рубить. — Так, брат, вот как по-нашему! Я тебе удружу. Вдруг топор словно во что воткнулся — нет возможности сдвинуть: чья-то рука удерживала топор. — Пусти меня! — целовальник не струсил, — знаю, черт, пусти! Я рубить буду! И слышит, над самой головой кто-то тихо так и кротко: — Послушай, любезный, не руби! Это — я. — Да ты кто? — Мы с тобой будем друзьями, и ты будешь счастлив. — Да кто ты? Говори толком! И топор пусти, выпить хочу. — Ну, брат, поднеси и мне. — Да как же я тебе поднесу, коли тебя не вижу! — Ты меня никогда не увидишь… впрочем, когда прощаться буду, может, покажусь. — Правду говоришь? — Давай выпьем, потом и поговорим. — Ну пусти ж топор. Топор высвободился. Целовальник зашел за стойку, взял штоф и хотел наливать. — Послушай, любезный, — остановил его голос, — ты много не пей. Для нас довольно и полуштофа. Возьми вон тот, у него донышко проверчено, в нем, брат, вино хорошее, не испорчено еще. — А ты откуда знаешь? Я сам принимал посуду: все полуштофы были целы. — А ты ходил отпускать вино-то мужику? — Ходил. — Тебе нарочно дистаночный и подменил полуштоф, чтобы наперед узнать, будешь ли здесь мошенничать. Целовальник взял полуштоф, посмотрел перед свечкой — и вправду, на дне дырка проверчена, воском залеплена. — Ну, чертова образина, теперь уж я верю, что ты черт. — А ты не ругайся, друзьями будем. Угости лучше! Целовальник налил два стакана, свой выпил, сам скосился, что будет — другой стакан поднялся и так в воздухе и опрокинулся, будто его кто пил, и так сухо, что и капли не осталось, только кто-то крякнул: — Ну, брат, спасибо за угощенье. — Спасибо-то, спасибо, а ты мне расскажи, кто ты. — Расскажу потом., А теперь слушай: всякий день в полдень и в полночь ставь в чело на заслонку стакан вина, да на меду лепешку. Этим я и буду кормиться, а ты себе торгуй. И не бойся ни поверенных, ни дистаночных, ни подсыльных, я буду предупреждать: за версты узнаешь, кто едет и кто подослан. Ложись и спи. Да образов, пожалуйста, не ставь, да и молебны не служи. А как я отсюда через год уйду — от кабака до кабака скитаюсь, вот я какой! — так и ты выходи, а то худо будет. Слышал? — Слышал. — Так и поступай. Целовальник выпил еще стакан и лег. А дерево стало все меньше и меньше, ниже и ниже, и скрылось под полом, и половица опять легла на свое место, как ни в чем не бывало. И свечка погасла.
На другой день был базар. Целовальник поутру встал рано. Торговля открылась хорошая, и он, полупьяный, торговал целый день и ни в чем не обсчитался. К вечеру проверил выручку и смекнул, что лучше торговать и не придумаешь, а что ночью тот ему говорил, он все исполнил: не забыл угостить и в полдень и в полночь и вином и лепешкой. С этого для целовальник торговал всем на зависть. Никогда он не попадал под штраф, а продавал вино рассиропленное, он всегда знал, кто из дистаночных или поверенных приедет к нему за проверкой, и был наготове. Диву давались ловкости его, а больше тому, что хоть пил, а пьян не напивался. Прошел год. И вот в годовую полночь, когда целовальник, по обыкновению, спал себе мирно на стойке, вдруг по кабаку голос: — Прощай, брат. Ухожу. Завтра и ты выходи! — Ну, что ж! — целовальник поднялся, — ты мне все-таки покажись! — Возьми ведро воды и смотри. Целовальник взял ведро, зажег свечку и стал смотреть на воду. И увидел, прежде всего, себя, ну, лицо известное, и долго только это одно и видел, инда в глазах зарябило, и как-то вдруг с левого плеча увидел другое — черноглазый, чернобровый и как мел белый, а в щеках словно розовые листочки врезаны. — Видишь? — Вижу. Кто-то вздохнул, и все пропало. И всю ночь в трубе был вопль и плачь.
Целовальник наутро не ушел, а, как всегда, отворил кабак — хотел еще зашибить копейку. Но попался: нагрянул дистаночный и жестоко оштрафовал. Тут только он схватился и сейчас же сдал должность. И уж больше не целовальник, купил он на награбленные деньги постоялый двор, перестал пить и сделался набожным человеком. 1914
Магнит-камень
Шел улицей старец по духовному делу и повстречал молодых: парня с молодой хозяйкой. Загляделся старец на молодуху сколько жил он на белом свете, сколько видывал всяких, а такой не видел. Где, добрый молодец, ты такую красавицу взял? — Господь дал, дедушка. Может ли это быть… Дай-ка я помолюсь, даст ли? — Даст и тебе, дедушка. С тем и попрощались. Молодые пошли по своим делам, а старец повернул в свое скитное место. И круглый год молился старец Богу, просил Бога дать ему такую красавицу, как тому встречному счастливому парню. А был старец великой веры, и молитва его была горяча и чиста и неустанна. Случилось о ту пору, задумал царь царевну замуж выдавать, и кликнул царь клич по всему царству, чтобы охотники ко дворцу явились смотреть царевну. А была царевна такая красавица, краше ее и не было. Дошел клич и до старца. В последний раз помолился старец и вышел из своего скитного места и прямо к царскому дворцу. Подходит к воротам и просится в палаты с царем поговорить. Доложили часовые, и велел царь пустить к себе старца. Пал старец перед царем на колени. — Что ты, дедушка? — спрашивает царь. А старец подняться сам уж не может, стар очень. Поднял его царь, усадил с собой. Отдышался старик. — Ну, что же ты, дедушка? — Да вот наслышался про вашу дочку-царевну, свататься пришел. Отдадите или нет? Слушает царь, ушам не верит. Что за притча? Сперва-то даже страшно стало: не указание ли какое? Стал расспрашивать старика, откуда он и какой жизни. И рассказал ему о себе старец, как от юности своей ушел он от мира и в чистоте прожил в трудах скитских. Видит царь, старик жизни хорошей, и говорит ему: — Послушай, Федосей, человек ты толковый, до таких лет дожил, дай Бог каждому, сам ты понимаешь, ну куда тебе жениться? А старик одно свое заладил, и ничем его не собьешь и никаким словом не остановишь: пришел царевну сватать, да и только. — Я с дочери воли не снимаю, — говорит царь, — ступай к ней: как она скажет, так и будет. Простился старец с царем, и провели старика к царевне в палату. — Что тебе, дедушка, надо? — спросила царевна. — Да вот сватать вас пришел. Пойдете или нет? Переглянулась царевна с сестрами и говорит: — Подумаю, — говорит, — выйдите на немного в прихожую. Вышел старец. Стоит у двери, дожидается, а сам думает: «Господи, неужели по молитве моей не дастся мне!» — и вспоминает, как тот парень сказал: «Дастся и тебе!» А уж от царевны требуют. — Ну, что, царевна? — Я пойду за тебя, — говорит царевна, — дай только отсрочки с добром справиться! А сестры ее тут же стоят и смеются. — А сколько, царевна? — На три года. — На три года! Да я до той поры умру, царевна. Нет, либо нынче, либо завтра свадьба. — Ну, хоть на два года, — просит царевна. Старик не сдается. — Ну, хоть на год! — На три недели, царевна. — Ладно, — согласилась царевна, — только так просто я за тебя не пойду, а достань ты мне магнит-камень, тогда и пойду. А сестры ее тут же стоят и смеются. Попрощался старец с царевной и пошел себе из дворца.
Не то, что достать, а он сроду родов не видывал, какой это магнит-камень. Вышел старец в чистое поле, стоит и повертывается на четыре стороны. — Господи, даешь мне царевну, а где я магнит-камень найду? И видит, в стороне леса чуть огонек мигает. И пошел он на огонек. Шел, шел — а там келейка стоит. Постучал — не отзываются, отворил дверь — нет никого. И вошел в келейку, присел на лавку, сидит и думает: «Где же я магнит-камень найду?» И отвечает ему ровно бы человечьим голосом: — Эх, Федосей, выпусти меня, я тебе магнит-камень достану. — Кто ты? — Все равно не поймешь, зачем тебе. — Где же ты сидишь? — В рукомойнике; выпусти, пожалуйста. Старик думает, чего же не выпустить, коли магнит-камень достанет! Да насилу отыскал рукомойник: от старости-то очень глазами слаб стал. И выпустил, — словно что-то выскользнуло, — не то мышь, не то гад. Бес разлетелся с гуся и улетел. «Ну, — хватился старик, — чего это я наделал!» А уж тот назад летит, и камень в лапах. — Вот тебе, получай! Осмотрел старец камень, потрогал — вот он какой магнит-камень! А сам себе думает: «Как же так, освободил он нечистую силу, и за то в ответе будет!» И говорит бесу: — Вот ты такой огромный, гусь, а залез в такую малую щелку? А бес говорит: — Да я, дедушка, каким хочешь могу сделаться! — Ну, сделайся мушкой. И вот бес из гуся стал вдруг мухой, самой маленькой мушкой. Старец инда присел: не упустить бы. — Пожужжи! Бес пожужжал. — Ну, полезай теперь на старое место, а я посмотрю, как это ты туда пролезешь… Тот сдуру-то и влез… Влез, а старец его и зааминил. Не с пустыми руками, с камнем — с магнитом-камнем пришел старец к царевне. — Вот тебе царевна, — и показывает камень. Посмотрела царевна: магнит-камень! — Ну, стало быть, судьба моя, собирайся венчаться. А старец и говорит: — Нет, царевна. Куда мне? Я год молился. Я только Господа исповедал. И теперь вижу, и больше мне ничего не надо. Прощай, царевна. И пошел в свое скитное место, доживать в трудах последние дни. 1914
Яйцо ягиное
Баба-Яга снесла яйцо. Куда ей? — не курица, сидеть нет охоты. Завернула она яйцо в тряпицу, вынесла на заячью тропку, да под куст. Думала, слава Богу, сбыла, а яйцо о кочку кокнулось — и вышел из него детеныш и заорал. Делать нечего, забрала его Яга в лапища и назад в избушку. И рос у нее в избушке этот самый сын ее ягиный. Ну, тут трошка-на-одной ножке и всякие соломины-воромины и гады, и птицы, и звери, и сама старая лягушка хромая принялись за него вовсю — и учили, и ладили, и тесали, и обламывали, и вышел из него не простой человек — Балдахал-чернокнижник. А стоял за лесом монастырь и спасались в нем святые старцы, и много от них Яге вреда бывало, а Яга-баба на старцев зуб точила. И вот посылает она свое отродье. — Пойди, — говорит, — в Залесную пустынь, намыль голову шахлатым, чтобы не забывались! А ему это ничего не стоит, такое придумает — не поздоровится. И вот, под видом странника, отправился этот самый Балдахал в Залесную пустынь.
Монастырь окружен был стеною, четверо ворот с четырех сторон вели в ограду, и у каждых ворот, неотлучно, день и ночь пребывали старцы, разумевшие слово Божье: у южных — Василиан, у северных — Феофил, у восточных — Алипий и у западных, главных — Мелетий. Балдахал, как подступил к воротам, и затеял спор, и посрамил трех старцев. — Кто переспорит, того и вера правей! — напал нечестивый на последнего, четвертого старца у ворот главных. И день спорят, и другой, и к концу третьего дня за-слабел старец Мелетий. Замешалась братия. И положила молебен отслужить о прибавлении ума и разумения. Да с перепугу-то, кто во что: кто Мурину от блуда, кто Вонифатию от пьянства, кто Антипе от зуба. Ну, и пошла завороха. А уж Балдахал прижал Мелетия к стене и вот-вот в ограду войдет и тогда замутится весь монастырь.
Был в монастыре древний старец Филофей, прозорливец, святой жизни. И как на грех удалился старец в пустынное место на гору и там пребывал в бдении, и только что келейник его Митрофан с ним. Видит братия, дело плохо, без Филофея ума не собрать ниоткуда, и пустилась на хитрость, чтобы как-нибудь дать знать старцу, сманить с горы. А случилось, что на трапезу в тот день готовил повар ушки с грибами. И велено ему было такой ушок сделать покрупнее да с грибом вместе письмо запечь, да, погодя, поставить в духовку, чтобы закалился. И когда все было готово, подбросили этот каленый ушок к главным воротам на стену перемета. И вот, откуда ни возьмись, орел — и унес ушок.
Старец Филофей сидел в своей нагорной келье, углубившись в Святое Писанье. А келейник прибирал келью, понес сор из кельи, глядь — орел кружит. И все ниже и ниже и прямо на Митрофана, положил к ногам ношу и улетел. — Что за чудеса! — со страхом поднял Митрофан ушок каленый да скорее в келью к старцу. И как раскрыли, а оттуда письмо, и все там прописано о старцах и о Балдахале. «Хочет проклятый обратить нас в треокаянную веру! Соблазнил трех старцев, за Мелетия взялся, и ему не сдобровать». — Что ж, идти мне придется, что ли? — сказал старец. — Благословите, батюшка, я пойду! — вызвался келейник. — Под силу ли тебе, Митрофан? — усумнился старец. — А ну-ка, давай испытаю: я представлюсь нечестивцем Балдахалом и буду тебя совращать — толковать Писание неправильно, а ты мне говори правильно. Митрофан крякнул, подтянул ременный пояс и ну вопрошать старца. И, ревнуя о вере, в такой пришел раж, всего-то исплевал старца и, подняв персты, ничего уже не слыша, вопил: — Победихом! Не малого стоило старцу унять его. Опомнившись, с рыданием приступил Митрофан к старцу, прося прощение. Старец сказал: — Бог простит. Это знамение — победишь проклятого! И, благословив на прю, дал ему кота, зеркальце да зерен горстку. — Гряди во славу!
С котом под мышку вышел Митрофан на великую прю. А Балдахал давным-давно прикончил с Мелетием, вошел в ограду, да в монастырских прудах и купается. — Пускай-де с меня сойдет вся скверна: упрел больно с дураками! Услышал это Митрофан и тут же, на бережку, расположился, достал кувшин, напихал в него всякой дряни, да и полощет: обмыть старается. А ничего не выходит, все дрянь сочится. Балдахал кричит: — Дурак, в кувшине сперва вымой! Заело Митрофана: — А ты чего лаешь, сам себе нутро очисти! — Экий умник, — рассмехнулся Балдахал, — тебя только недоставало. И началась у них пря. И с первых же слов стал нечистый сбивать с толку Митрофана. Растерялся было Митрофан и видит — мышка указывает усиком Балдахалу по книге. Митроха за кота: выпустил Варсофония. Варсофоний за мышкой — и пошел уж не тот разговор. Да не надолго. Опять нечистый взял силу. И видит Митрофан — голубь ходит по книге, лапкой указывает Балдахалу. Митрофан за зерно, посыпал зернышка — и пошел голубь от книги, ну клевать, наклевался, отяжелел и ни с места. И Балдахал запнулся. Да вывернулся проклятый. И не знает Митрофан, что ему и делать: ни слов нет, ни разуму! И вспомнил тут о зеркальце, вытащил его, да как заглянет — и сам себя не узнал: откуда что взялось! Балдахал только глаза таращит, и вдруг поднялся над землею и понесся. Осенил себя Митрофан крестным знамением и за ним вдогонку, только полы раздуваются да сапог о сапог стучит. И занеслись они так высоко к звездам, там, где звезды светятся и не дай Бог коснутся: завьют, закрутят и падешь, как камень. — Эй, — кричит Митроха, — гляди, не напорись! — А что там? Что такое? — А вот подбрось-ка туда космы. Балдахал сграбастал пятернею свои космы да и подбросил — и хоть бы волосок на голове остался, гола, что коленка. «Ну, слава Богу, хоть голова-то уцелела!» И раздумался. Видит, что враг — добрый человек: предостерег! И удивился. Тут его Митрофан и зацапал, и повел в заточение.
Кельи в монастыре стояли без запора — так и по уставу полагалось, да не к чему было: разбойники братию не обижали. И только одна казна книжная под замком держалась, чтобы зря книги не трогали да не по уму не брали. В эту казну книжную и заточил Митрофан Балда-хала. И там трое суток держал его, нечистого, без выпуска. В первый-то день, как завалился Балдахал на книги, так до полудня второго дня и дрыхнул без просыпа, а потом, надо как-нибудь время убить, взялся перебирать книги. И вот в одной рукописной — подголовком ему служила — бросилось в глаза пророчественное слово. А написано было, что в некое новое лето явится в Залесную пустынь нечестивец, именем Балдахал, и обратит в свою треокаянную веру четырех привратных старцев — Мелетия, Алипия, Феофила, Василиана, а с ними замутится братия, и один лишь келейник святого старца Филофея, Митрофан, смирит его. Вгляделся Балдахал в буквы, потрогал пергамен, понюхал — времена древние, и устыдился. «И чего я такое делаю, окаянный!» — и давай жалобно кликать. И тогда на клич его жалкий на утро третьего дня пришел Митрофан и с ним старцы и братия, посрамленная от нечестивого, пал Балдахал пред ним на колена, раскаялся и обратился к правой вере. И перед лицом всего собора дал крепкую клятву переписать все книги, загаженные им в заточении, и новую написать в осуждение бывшего своего нечестия. 1915
Спрыг-трава
Затеял один дошлый на Ивана-Купалу спрыг-траву искать — цвет купальский. Известно, сами морголютки неладные и те тогда ладно жить с тобой будут! Вымылся он в бане, надел чистую рубаху, достал белый платок, да с платком, как стемнело, и пошел в лес. И в лесу там на поляне очертил три круга, разостлал под папоротником платок, присел, ждет, что будет.
Вот слышит, шум по лесу, треск, какие-то звери дерутся, а там стук, чего-то делают, и словно земля вся начинает кончаться, и вдруг набежал вихорь страшный — приблизилась полночь. И ровно в полночь тихо папоротник расцвел, как звездочка. И стали цветки на платок падать, и насыпало много, как звездочки. Тут зря зевать не годится, завязал он цветы в узелок, но только что ступил, откуда ни возьмись медведи, начальство, саблями так и машут. — Брось, — кричат, — а то голову долой! И за руки хотят схватить. И вдруг война началась, такая пошла резня — беда! Из пушек палят, раненые валятся. — Из-за тебя проливаем кровь! Брось! И появилась высокая каменная стена, и воткнуты в стене копья прямо перед глазами, того и гляди, выколют глаз. И стала земля проваливаться, и остался он на одной кочке. Все водой заливает — буря страшная, волны так и хлещут. Снег пошел. Тонет народ, кричит, просят бросить цветок. — А то, — кричат, — измаялись наши душеньки! И вдруг, видит, запылала деревня, и дом свой видит — горит, и какие-то черные с крючками топочут вокруг. — Не пускай! Не пускай его! Пускай горит! А ветер так и воет, подкидывает бревна, несет головни, вся земля горит. Не жив, не мертв, дрожкой дрожит, а держит узелок, не выпускает из рук — будь, что будет! А они, черные, уж так и этак стараются достать его: крючки закидывают, да не могут, — за кругом стоят. И рассвело. Солнце взошло. Слава Богу, миновалось. Он и пошел из лесу, а лес зеленый, птицы поют — заслушаешься. Шел, шел — узелок в руке держит. Вдруг слышит, позади кто-то едет. Оглянулся — катит в красной рубахе и на него, налетел на него, да как жиганет со всего маху, узелок из рук и выпал. Смотрит — ночь, как была ночь. И нет ничего, один белый платок под папоротником лежит, а сам он как есть мокрый: купальская росная была ночь. 1914
Банные анчутки
Во всякой бане живет свой банник. Не поладишь — кричит по-павлиньи. У банника есть дети — банные анчутки: сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка, а женятся они на кикиморах, и такие же сами проказы, что твои кикиморы. Душа, девка бесстрашная, пошла ночью в баню. — Я, — говорит, — в бане за ночь рубашку сошью и назад ворочусь. В бане поставила она углей корчагу, а то шить ей не видно. Наскоро сметывает рубашку, от огоньков ей видно. К полночи близко анчутки и вышли. Смотрит, а они мохнатенькие, черненькие у корчаги уголья, у! — раздувают. И бегают, и бегают. А Душа шьет себе, ничего не боится. Побоишься! Бегали, бегали, кругом обступили, да гвоздики ей в подол и ну вколачивать. Гвоздик вколотит: — Так. Не уйдешь! Другой вколотит: — Так. Не уйдешь! — Наша, — шепчут ей, — Душа, наша, не уйдешь! И видит Душа, что и вправду не уйти, не встать ей теперь, весь подол к полу прибит, да догадлива девка, начала с себя помаленьку рубаху спускать с сарафаном. А как спустила всю, да вон из бани с шитой рубахой и уж тут у порога так в снег и грохнулась.
Что говорить, любят анчутки проказить, а уж над девкой подыграть им всегда любо. Выдавали Душу замуж. Истопили на девишник баню, и пошли девки с невестой мыться, а анчутки — им своя забота — они тут как тут, и ну бесить девок. Девки-то из бани-то нагишом в сад и высыпали на дорогу и давай беситься: которая пляшет, да поет что есть голосу невесть что, которые друг на дружке верхом ездят, и визжат и хоркают по-меренячьи. Едва смирили. Пришлось отпаивать парным молоком с медом. Думали, что девки белены объелись, смотрели — нигде не нашли. А это они, это анчутки ягатые, нащекотали усы девкам!
Дурная молва пошла, перестали баню топить. Приехал на ярмарку кум Бублов, печник, сорвиголова, куда сама Душа! Вздумал с дороги попариться, его стращают, а ему чего — Бублов! — и пошел в баню. Поддал, помотал веник в пару, хвать — с веника дождик льет, взглянул, а он в сосульках. Как бросит веник, да с полка хмыль из бани, прибежал в горницу. — Ну, — говорит, — теперь верю, что у вас за баня. — Это тебе, кум, попритчилось, видно! — смеются. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|