
|
|
Прощание – Либби и генерал, Литтл Херт 18 мая 1876 г. 10 глава
28 июля, Форте Линкольн, майор Джозеф Тилфорд написал Элизабет, что он отправил останки ее мужа U.S. Экспрессом в Вест-Пойнт в соответствии с указаниями генерала Шеридана. В письмо Тилфорд вложил локон волос Кастера, упомянув, что он позволил себе вольность оставить несколько волосков. Слухи о разбросанных костях тревожили Элизабет, впрочем, как и всех остальных вдов и родных погибших кавалеристов. Говорят, что эти локоны, полученные от Тилфорда, успокоили ее и убедили в том, что тело ее мужа было опознано.

23 декабря 1863 года она писала своему молодому супругу: “Дружок с золотистыми кудрями, сбереги их после стрижки. В старости у меня будет сделанный из них парик”. Он так и поступил, а она исполнила свое обещание, хотя и не дожидалась старости. Элизабет надевала этот парик, по крайней мере, один раз в Форте Линкольн на костюмированный бал и, возможно, несколько раз на любительских спектаклях. Затем одной холодной ночью она проснулась от рокочущего шума в дымоходе. “Женщины обладают столь укоренившейся привычкой унюхивать дым и отправлять глубокой ночью мужчин на бесполезные проверки, что я пыталась несколько мгновений сохранять молчание”. Но не слишком долго. Зловещий шум все нарастал. Элизабет разбудила мужа, который помчался вверх по лестнице и обнаружил комнату, расположенную прямо над ними, в огне. Она услышала грохот и испугалась, что его убило. Пропитанные дегтем обои образовали взрывчатую смесь: “... дымоход пылал, целую сторону комнаты выбило взрывом, и он стоял, усыпанный штукатуркой и окруженный осыпавшимся кирпичом”. Часовой поднял тревогу. Отовсюду понабежали люди, но было слишком поздно. Дом сгорел. Почти вся их собственность исчезла в дыму и пламени. О чем Элизабет сожалела более всего, так это об утрате подборки газетных статей о ее муже и о парике - драгоценном парике. Кастер сберег для Элизабет и свои усы. Весной 1864 года он отправил их ей по почте - факт, отмеченный ею в письме к родителям. В том же самом письме она упоминает историю об одном конфедератском офицере. Сей офицер дал некоей девушке локон своих волос и попросил ее доставить этот локон мистеру Линкольну, сказав, что в течение десяти дней он отобедает с президентом. Это ничего кроме как анекдот. Элизабет знала, что родители поймут ее. Сегодня его смысл не вполне ясен. Похвальба или угроза этого конфедерата очевидна, однако почему он приложил к сообщению свой локон? Некие условности навязывались тогда так же жестко, как и в наши дни. Женщина могла провести полдня, моя, расчесывая, укладывая и переукладывая увенчивающее ее великолепие, но мужчина, уделявший своей прическе больше внимания, чем того требовала простая аккуратность, рисковал навлечь на себя подозрительные взгляды. По этой причине Дж.А.К. привлекал к себе внимание. Он, казалось, был очарован и озадачен своими волосами. Когда Кастер поступил в Вест-Пойнт, его прозвали Задницей из-за нежно-розового цвета лица и обрамлявших голову кудрей. Он ничего не мог поделать со своей кожей но, пытаясь выглядеть менее женственно, обрезал накоротко свои волосы. Затем он купил накладку из фальшивых волос. Затем Кастер начал пользоваться душистой помадой, что принесло ему прозвище “Корица”. Ко дню выпуска он был Кудрявым - одно из нескольких имен, которых он так никогда не лишился. Если бы цвет его кожи был медным, а не розовым как у вашичу, он бы не ведал подобных насмешек. Индейцы не находили нечего смехотворного в человеке, уделяющем внимание своей прическе. Вовсе наоборот. Они взирали на волосы - мужские ли, женские - с восхищением и уважением. Торговец девятнадцатого века Генри Боллер говорит о трех модниках Гро-Вантрах, “одетых и раскрашенных по высшей моде, со связками ракушек, увенчанных маленькими алыми перышками и подвешенных к локонам по обе стороны лба. Они носили фальшивые волосы, украшенные пятнышками красной и белой глины...”. Он описывает вождя по имени Четыре Медведя как высокого, благородного человека, чьи черные волосы почти достигали земли - “практически бесценное украшение”. Есть сообщения о воинах с волосами длиной в десять, а то и в пятнадцать футов. Фрэнк Линдерман пишет, что знаменитый моток волос Кроу был изучен генералом Хью Скоттом и монтанским конгрессменом Скоттом Ливиттом. Он цитирует письмо, полученное им от Ливитта и датированное 10 июня 1931 года: “Волосы разматывали, передавая их по кругу из рук в руки, до тех пор, пока весь клубок не был размотан. Макс Большой Человек измерил их своими ладонями. Полная длина этих волос составила семьдесят шесть ладоней и толщину одного из пальцев Макса. Это оказалось более двадцати пяти футов в длину...”. Так или иначе, те кудри, присланные майором Тилфордом, успокоили Элизабет, убежденную в том, что они действительно были срезаны с головы ее мужа. Едва ли она могла ошибаться, так что, возможно, кости генерала и в самом деле покоятся там, где утверждает правительство. Бентин написал пером, погруженным в уксус: “Поколения кадетов будут смиренно преклоняться перед гробницей Кастера в Вест-Пойнте...”. Показания Кэддла и ЛеФоржа о скелетах, открыто лежащих на поле сражения, вскоре были подтверждены другими визитерами. В конце лета одиннадцать голов были подобраны и похоронены в яме возле монумента группой солдат, приехавших туда, чтобы осмотреть знаменитое поле. А горнист А.Ф. Малфорд, причисленный к разведывательной экспедиции, остановившейся на поле, насчитал останки восемнадцати человек, собранные в шесть куч. Малфорд говорил, что обрубки палаточных шестов стояли возле каждой из куч, и на одном из них висело белое сомбреро с двумя пулевыми отверстиями и разрезом, сделанным, очевидно, топором. Поблизости он заметил топор с темным пятном на проржавевшем лезвии. Помимо этого Малфорд видел скелеты четырех людей и лошадей - “среди последних был скелет коня, на котором скакал Кастер” - что любопытно, хотя он и упустил пояснить, каким образом Вик был опознан.

Через два года после визита Малфорда подразделение под командованием капитана Джорджа Сандерсона разобрало пирамиду из камней, заменив ее полой пирамидой из бревен, которую они наполнили лошадиными костями. Затем, в 1881 году, правительство начало признавать значение этого сражения. Поле было очищено, людские останки собраны вместе и закопаны в канаву у основания восемнадцатитонного гранитного монумента, на котором начертали имена погибших. Подписи содержат несколько ошибок, что, вероятно, неизбежно при подобных обстоятельствах, но одна или две из них изумляют. Племянник Кастера Армстронг “Оти” Рид числится здесь под именем Артур Рид, а фамилия Исайи отсутствует - может быть из-за того, что он был черным. На склоне пониже монумента находится небольшой, скромный, но изящный музей, в котором представлены фотографии, картины, репродукции со знаменитых картин и топографическая карта этой орошенной кровью земли. Там также находится книжный магазин, библиотека и экспозиция военного снаряжения - как красного, так и белого - в стеклянных витринах. Капитан Бурк упоминает инструмент, применявшийся воинами Сиу во время сражения на Роузбаде - “разновидность томагавка с рукоятью в восемь футов длиной”, а сержант Райан описывает дубинку, в которую было вставлено полдюжины лезвий разделочных ножей. В музее нет ничего из этих гротескных орудий, но там выставлена Сиукская палица с треугольными железными зубьями, вызывающая в памяти те палицы с обсидиановыми остриями, которыми потчевали конкистадоров Ацтеки шестнадцатого века, а также смертоносная дубинка: овальный камень размером с большой кулак, обтянутый сыромятной кожей. В сравнении с этими чудовищными предметами вооружения Сиу Шайенское оружие выглядит хрупким и изящным. Воины Шайены не любили восьмифутовые томагавки, палицы с лезвиями от ножей и дубинки Каменного века. Помимо луков и стрел, которыми пользовались все племена, Шайены предпочитали длинные тонкие копья и небольшие топорики, которыми легко можно манипулировать одной рукой. Мужчина сам изготавливал для себя стрелы, их длина соответствовала длине руки от плеча до кончиков пальцев. Личную и племенную принадлежность стрелы можно было определить по окраске. Когда-то все Шайенские стрелы были окрашены в голубой цвет – дань уважения синеве некоего озера в Черных Холмах, но к концу девятнадцатого века эта традиция отмерла. В 76-ом Шайенскую стрелу можно было опознать по трем волнистым линиям, идущим от наконечника до оперения, поскольку не при помощи прямых линий, а посредством волнистых, можно общаться со сверхъестественными силами. Более интересным, однако, для англосакского взора являлось существенное различие между охотничьей и боевой стрелой. Наконечник стрелы, предназначенной для Пте, был узок в основании, так что стрелу легко можно было выдернуть из трупа и использовать опять. Но наконечник стрелы, применяемой против человека, был коротким и широким, с изогнутыми плечиками, что сильно затрудняло ее извлечение. Шайен по имени Большой Бобер сражался с Седьмой, и на фотографии, сделанной через пятьдесят лет после сражения, он выглядит почти как Президент Линдон Джонсон[267], если бы тот носил косы. Его характерные ножны, украшенные четырьмя пятнышками краски, представлены в экспозиции музея. Зеленое пятнышко удостоверяет, что Большой Бобер дотронулся до тела Кроу. Желтое обозначает Шошона, к которому он прикоснулся во время другого сражения а не на Литтл Бигхорне, поскольку с Кастером Шошонов не было. Два красных пятна объявляют о том, что Большой Бобер засчитал ку на двух белых людей. Сиу и Арапахи могли поочередно засчитать на одном враге до четырех ку. Шайены – до трех. Дотронувшийся первым мог окрасить лицо черным - цвет смерти – при помощи золы и бизоньей кровью. Второму даровалось право распустить свои косы, хотя он и не мог раскрасить лицо. И так далее, по мере уменьшения опасности и, соответственно, славы. Говорят, что один Шайен засчитал ку, опуская со скалы ремень до тех пор, пока он не коснулся лежащего внизу у подножья мертвого Шошона. Если возникал спор о том, кто засчитал или не засчитал ку, оспаривающие это право воины давали показания перед бизоньим черепом, глазницы которого были набиты травой, чтобы обеспечить беспристрастность. Англо-европейские украшения - звезды, орлы, дубовые листья, двойные нашивки, одинарные нашивки, шевроны, эмблемы, указывающие на различные степени героизма - все они кажутся аналогами индейской символики. Сиукские воины говорили Хассрику, что первый, дотронувшийся до врага, мог носить перо беркута, закрепленное вертикально. Второй носил орлиное перо, наклоненное влево. Третий - в горизонтальном положении. Коснувшийся врага четвертым имел право на перо грифа, свисающее с волос. Воин, спасший жизнь другу, мог нарисовать на одежде крест, двойной крест означал, что его владелец спас друга, усадив того на своего пони. Убийство врага в рукопашной схватке давало право победителю нарисовать красную ладонь на одежде или на лошади. Горизонтальные полосы на леггинах обозначали ку. Перо с зарубкой говорило о раненой лошади.
обычно разбирали их, чтобы добавить блестящие пружинки, винтики, стрелки и зубчатые
Несколько индейских участников пережили Уиндольфа. Двумя последними были глухонемой сын Сидящего Быка Джон, умерший в мае 1955 году, и Борода В Росе - иногда называемый Железным Градом - который умер в ноябре того же года. Последним очевидцем, не участником, вероятно был Шайен по имени Чарльз Сидящий Человек, доживший до 1961 года. Так что все это происходило совсем недавно, но Литтл Бигхорн врос в прошлое нашей нации подобно кремневому наконечнику стрелы, вонзившейся в тополь. Сайрес Брэйди получил в 1904 году письмо от рядового Уильяма Морриса, служившего у Рино в роте “М”. Выразив недовольство некоторыми деталями в одном из исторических очерков Брэйди, Моррис добавил, что был сильно удивлен, узнав о медали Уиндольфа. “Я помню его как портного роты “Н” и ясно вспоминаю, как он вошел в полевой госпиталь, согнувшись чуть ли не пополам и умоляя обработать ему рану, которая, как предполагал его вид, была смертельной. Однако хирург, сняв с него штаны, обнаружил всего лишь ожог. В промежутках между взрывами смеха врач приказал ему вернуться в строй...”. Рядовой Джим Пим был не таким. В Майлс-Сити, спустя годы после сражения, кто-то наставил на него ружье. Пим вырвал его, отбросил в сторону, свалил человека на землю, пнул ногой и велел убираться из города. Так что были и боязливые, и бесстрашные, скорые на ногу как адъютант Кук, и вялые как копуша Тош МакИнтош. Некоторые походили на Одинокого Чарли, не расходовавшего понапрасну патроны, другие палили по теням. Прикреплен гвоздями к южной стене музея выцветший полковой штандарт Седьмой Кавалерии, не ставший занавеской в одном из туземных типи лишь потому, что его везли в обозе. Эмблему - орла, зажавшего в своих когтях пучок стрел, более острых, чем стрелы молний - можно считать символическим образом наэлектризованного командира Седьмой. Прямо через проход, лицом к знамени, висит один из его элегантных замшевых костюмов. Подобно МакАртуру в фетровой шляпе с трубкой в зубах и Паттону в выгоревшем стальном шлеме, он создал незабвенный образ. Капитан Уильям Ладлоу, знакомый с Кастером еще со времен Вест-Пойнта, заметил, что генерал так никогда и не выучился писать слово “поражение”. Кастер не знал ничего, кроме успеха. Ему нравилось участвовать в событиях, комментировал Ладлоу, но в нем было очень мало как от мыслителя, так и от исследователя. Младший брат Кастера Невин не согласен с таким утверждением. В одном из бесчисленных интервью Невин рассказал об их школьных деньках. Том, говорил он, всегда поднимал шум. “Том, тот всегда верховодил. Том жевал табак, как и большинство мальчишек, но конечно это не было разрешено в школе. Однако Том никак не мог успокоиться, он просверлил дыру в классном полу, чтобы было место куда сплевывать. Он пытался прикрывать ее ногой...”. В отличие от Тома Дж.А.К. никогда не бузил. От старика Фостера, школьного учителя, ожидали, что тот перед началом каждых каникул будет устраивать пикники для своих учеников, но Фостер был
Это неожиданное замечание. Оно звучит несовместимо с его репутацией порывистого и стремительного офицера. “Я не порывист или импульсивен”, - говорил он сам с нескрываемым раздражением. “Я возмущен этим. Все, что я когда-либо совершал, является результатом обучения - того, что я создавал вымышленные военные ситуации, которые могут возникнуть. Когда я вовлекался в кампанию или в сражение, и возникала критическая ситуация, все, что я когда-либо читал или изучал, фокусировалось в моей памяти, будто ситуация находилась под увеличительным стеклом, и принятое мною решение было мгновенным следствием оного. Мой мозг срабатывал моментально, но всегда это было результатом того, что я когда-либо изучал. Мое решение всегда опиралось на эти знания и на ситуацию...”. Один из сержантов нес его личный штандарт. Точных описаний этого флага не имеется, а поскольку он исчез во время сражения, неизвестны ни его размеры, ни сорт ткани, ни был ли он украшен бахромой. Штандарт раздваивался наподобие ласточкина хвоста и был разделен по горизонтали на два цвета - сверху красный, снизу синий. В центре располагалась эмблема в виде двух скрещенных белых сабель. Такая же эмблема - скрещенные сабли - появилась затем и на карманных часах Кастера - прелестных часах, которые после сражения довольно долго блуждали по западным штатам. Никогда так и не выяснилось, какой именно краснокожий вытащил их из генеральского кармана, но в 1906 году держатель салуна в Монтане купил часы у оставшегося неизвестным индейца, а затем проиграл в кости заезжему торговцу, демонстрировавшему их на протяжении нескольких лет. Затем часы исчезли но снова возникли у калифорнийского торговца антиквариатом по имени Уинд-Ривер Билл, перепродавшего их кому-то, кто продал их кому-то еще, кто продал их мистеру и миссис Джон Фут из Биллингса, Монтана, которые считали их одним из главных сокровищ своей коллекции “Сокровища Запада”. Впоследствии мистер и миссис Фут предложили эти западные реликвии в дар городу Биллингс, но старейшины Биллингса, разумно относившиеся к деньгам, отклонили этот подарок, так как не хотели ассигновать деньги на страховку. Теперь коллекция рассеялась, и часы старого Крепкого Зада опять исчезли из виду наряду со многими другими забавными реликвиями. На обратной их стороне, выгравированная поверх скрещенных сабель, имеется такая надпись:
ГЕНЕРАЛУ КАСТЕРУ ОТ МИЧИГАНСКОЙ БРИГАДЫ “RIDE YOU WOLVERINES”[268] Что за яркая, неистовая личность. За кого он сам себя принимал. Должно быть, он считал себя бессмертным - по крайней мере до тех пор, пока его волосы оставались длинны - таким же непобедимым, как Беовульф, или Зигфрид, или Харальд Великодушный. Очевидно, Кастер считал, что его предки были англичанами. Весной 1876 года из Нью-Йорка он писал Элизабет, что получил письмо от джентльмена с такой же фамилией, живущего на Оркнейских островах[269]. Этот джентльмен был уверен в том, что они происходят из одной и той же семьи, и отследил фамилию вплоть до 1647 года: Cusiter, Cursider и Cursetter[270]. Сайрес Брэйди утверждает, хотя и не приводит документального подтверждения тому, что родоначальником фамилии в Америке был гессенский офицер[271], захваченный в плен под Саратогой в 1777 году. Будучи отпущенным под честное слово, он решил остаться в Соединенных Штатах. Родословную этого человека в свою очередь можно отследить до Пауля Кюстера (Paul Kuster), родившегося в Гисене в 1630 году. Вне всяких сомнений его фамилия имеет тевтонские корни. Потомок по боковой линии, Мило Кастер, говорил, что в различных формах – Кюстер, Костер, Кёстер - эта фамилия обычна для многих голландских, немецких и американских семейств. Самое первое письменное упоминание о ней относится к Лауренсу Костеру (Laurens Coster), “считающемуся изобретателем печатного дела в Харлеме, Голландия”. Дата рождения Лауренса Костера неизвестна, но умер он в 1440 году, так что он и Гуттенберг были современниками. Первая личность или семейство, носившая эту фамилию, возможно имела пост в голландской или немецкой Католической церкви в эпоху Средневековья, поскольку ее английское значение: “ризничий”. Мило Кастер сообщает, что в 1535 году во времена Инквизиции некто Питер Костер (Pieter Koster), “меннонитский проповедник[272], ранее бывший ризничим в церкви, известной в те времена как Римская католическая церковь Ост-Заандама, Голландия, был осужден римско-католическими властями и казнен в Амстердаме вследствие своих религиозных убеждений”.
Итак, он происходил из той расы голубоглазых, длинноносых дьяволов, некогда высокомерно рыскавших по холодным черным лесам с Северным морем в своих жилах. И будучи тем, кем он был, Кастер должен был ощущать на себе их взоры, когда мчался галопом по американской прерии с развевающимися по ветру соломенными кудрями. Даже его вооружение - спортивная винтовка Ремингтона с восьмиугольным стволом, два самовзводящихся пистолета “уэбли-бульдог” с отделанными слоновой костью рукоятками, охотничий нож в расшитых бисером ножнах – все, что его окружало, вносило свой вклад в этот образ. Генерал Джордж Армстронг Кастер! Кестер! Кюстер! Его имя отдается звоном меча. Когда он был ребенком, его отец Эммануэль одевал Джорджа в бархатный костюм и брал с собой на строевые учения. Там, лязгая игрушечным мушкетом, он учился исполнять шотландские приемы с оружием. Война с Мексикой была на слуху. Большинство горожан одобряли ее, но некоторые были испуганы и подавлены. Однажды старый Эммануэль услышал, как его мальчик повторяет школьный катехизис: “Я голосую за войну!”.
И в наши дни пустеют карманы убитых солдат, а их личные вещи передают ближайшим родственникам, но разрезать карман вместо того, чтобы просто расстегнуть его - это было щепетильностью девятнадцатого века. И в те рыцарские дни Кастер воздержался от вскрытия писем побежденного противника-конфедерата генерала Манфорда, которые, весьма возможно, содержали важную военную информацию. Он даже не просмотрел письма Манфорда; он связал их в пачку, “ни прочитав их сам, ни позволив сделать это кому-то другому”. Личная переписка могла наполнить его глаза слезами, хотя залитое кровью поле могло оставить Кастера безразличным. При Булл-Ране в октябре 1863 года он наслаждается ужином “под величавым дубом, на котором множество боевых шрамов, окруженный могилами, многие из которых размыты дождем так, что видны черепа и скелеты... Сильный огонь на левом фланге”. Всякий раз, навещая родителей, он терял контроль, когда наступал момент расставания. Элизабет с ужасом ожидала момента этих плаксивых проводов. Она увидит мужа, увивающимся вокруг своей матери, шепчущим ей что-то, пытаясь хоть как-то успокоить ее. А когда он соберется отъезжать, мать будет цепляться за него, пока, наконец, наполовину лишившуюся чувств от боли, ее не уведут в свою комнату. Кастер сам разрыдается, покидая дом. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
 Другой очевидец, имя которого не приводится, сказал: “Стало неприятным открытием, когда обнаружилось, что даже генерала невозможно доподлинно опознать...”.
Другой очевидец, имя которого не приводится, сказал: “Стало неприятным открытием, когда обнаружилось, что даже генерала невозможно доподлинно опознать...”. В те времена человеческие волосы обладали неким культурным значением, утраченным в наши дни. При помощи комбинации различных текстур и цветов, из волос создавались миниатюры. Мужчины носили часы на сплетенных из волос цепочках. Женщины обменивались подарками, сделанными из волос. Двумя из подарков, преподнесенных Элизабет к ее тринадцатилетию были браслет из волос ее матери с застежкой из отцовских волос и волосы ее тетушки, сплетенные в форме сердечка.
В те времена человеческие волосы обладали неким культурным значением, утраченным в наши дни. При помощи комбинации различных текстур и цветов, из волос создавались миниатюры. Мужчины носили часы на сплетенных из волос цепочках. Женщины обменивались подарками, сделанными из волос. Двумя из подарков, преподнесенных Элизабет к ее тринадцатилетию были браслет из волос ее матери с застежкой из отцовских волос и волосы ее тетушки, сплетенные в форме сердечка. Его отряд разбил лагерь там, где год назад располагалось индейское селение. Погода была плохой, и они полуспали - полубодрствовали, растревоженные воем волков, ищущих кусочки хрящей, остававшихся на костях. В темноте один из людей почувствовал, как нечто холодное скользнуло по его лицу, и лагерь огласился криком: “Змеи!”. То была зеленая ящерица. Их были дюжины. Сотни. При свете костров люди гонялись за ними, кромсая саблями, а когда была разрублена последняя ящерица, люди попытались снова уснуть, но создания вернулись. Это смахивает на один из кошмаров Гойи.
Его отряд разбил лагерь там, где год назад располагалось индейское селение. Погода была плохой, и они полуспали - полубодрствовали, растревоженные воем волков, ищущих кусочки хрящей, остававшихся на костях. В темноте один из людей почувствовал, как нечто холодное скользнуло по его лицу, и лагерь огласился криком: “Змеи!”. То была зеленая ящерица. Их были дюжины. Сотни. При свете костров люди гонялись за ними, кромсая саблями, а когда была разрублена последняя ящерица, люди попытались снова уснуть, но создания вернулись. Это смахивает на один из кошмаров Гойи.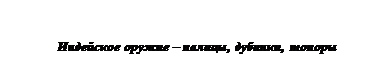 Генерал Терри предал огню почти весь индейский лагерь, символически предсказав несколько последующих лет. Ярость Белой Америки невозможно было сдержать после этого удара по элитной Седьмой. Индейцы, с которыми по-скотски обращались в прошлом, должны были претерпеть еще больше страданий независимо от того, что они совершали или не совершали. Те, кто ни разу не украл мула или не пустил ни одной стрелы в поселенцев, ощутили на себе правительственный гнев. Вплоть до того дня 1890 года, когда пушки Гочкиса открыли шоу у Вундед-Ни, и двадцать три солдата удостоились медалей Славы - вплоть до той ритуальной оргии не утихала англосакская ярость.
Генерал Терри предал огню почти весь индейский лагерь, символически предсказав несколько последующих лет. Ярость Белой Америки невозможно было сдержать после этого удара по элитной Седьмой. Индейцы, с которыми по-скотски обращались в прошлом, должны были претерпеть еще больше страданий независимо от того, что они совершали или не совершали. Те, кто ни разу не украл мула или не пустил ни одной стрелы в поселенцев, ощутили на себе правительственный гнев. Вплоть до того дня 1890 года, когда пушки Гочкиса открыли шоу у Вундед-Ни, и двадцать три солдата удостоились медалей Славы - вплоть до той ритуальной оргии не утихала англосакская ярость. Наряду с ножнами Большого Бобра в музее представлен мумифицированный пегий зимородок в кожаном мешочке, украшенном ярко-синим бисером - амулет, оберегающий жизнь своему владельцу, поскольку ни стрелы, ни пули не могут остановить стремительного полета этой птицы. Белые люди также носили с собой обереги, обычно - религиозные талисманы, но эти предметы не были столь впечатляющи. Белые люди редко тратили свое время на эстетику. Снаряжение вашичу, принадлежало ли оно правительству или отдельной личности, всегда оставалось чисто функциональным. Флаг мог быть украшен бахромой, а солдатские штаны - цветной полосой, но винтовки Спрингфилда, револьверы Кольта, сабли, патронташи, седла - все это снаряжение было в первую очередь утилитарным. Наиболее красивой американской реликвией является крышка металлической коробки от галет, которую минувшее столетие нежно окрасило окисью меди, промаркированная витиеватым каллиграфическим стилем более элегантного века: C.L. Woodman & Co., Chicago. Но ни одна из реликвий, индейских или англосакских, не говорит так о ярости этого боя, как тоненькая записная книжка Тоша МакИнтоша, которую он носил в своем нагрудном кармане - одно маленькое, аккуратное пулевое отверстие в переплете.
Наряду с ножнами Большого Бобра в музее представлен мумифицированный пегий зимородок в кожаном мешочке, украшенном ярко-синим бисером - амулет, оберегающий жизнь своему владельцу, поскольку ни стрелы, ни пули не могут остановить стремительного полета этой птицы. Белые люди также носили с собой обереги, обычно - религиозные талисманы, но эти предметы не были столь впечатляющи. Белые люди редко тратили свое время на эстетику. Снаряжение вашичу, принадлежало ли оно правительству или отдельной личности, всегда оставалось чисто функциональным. Флаг мог быть украшен бахромой, а солдатские штаны - цветной полосой, но винтовки Спрингфилда, револьверы Кольта, сабли, патронташи, седла - все это снаряжение было в первую очередь утилитарным. Наиболее красивой американской реликвией является крышка металлической коробки от галет, которую минувшее столетие нежно окрасило окисью меди, промаркированная витиеватым каллиграфическим стилем более элегантного века: C.L. Woodman & Co., Chicago. Но ни одна из реликвий, индейских или англосакских, не говорит так о ярости этого боя, как тоненькая записная книжка Тоша МакИнтоша, которую он носил в своем нагрудном кармане - одно маленькое, аккуратное пулевое отверстие в переплете. колесики к своим ожерельям.
колесики к своим ожерельям. Бок о бок висят две медали Славы, ленты потерты и полинялы, принадлежавшие людям, давно забытым всеми, кроме их потомков и исследователей Литтл Бигхорна. Уиндольф. Пим. Имена звучат странно, словно принадлежат людям давно ушедшей эпохи, однако это не так. Чарльз Уиндольф умер в возрасте девяносто восьми лет в 1950 году - последний из выживших в том бою белых. Он был снегирем, дезертировавшим из Второй Пехоты и вновь завербовавшимся в Седьмую под именем Чарльза Врангеля. Будучи разоблаченным, ему позволили вновь принять присягу, на этот раз под собственным именем.
Бок о бок висят две медали Славы, ленты потерты и полинялы, принадлежавшие людям, давно забытым всеми, кроме их потомков и исследователей Литтл Бигхорна. Уиндольф. Пим. Имена звучат странно, словно принадлежат людям давно ушедшей эпохи, однако это не так. Чарльз Уиндольф умер в возрасте девяносто восьми лет в 1950 году - последний из выживших в том бою белых. Он был снегирем, дезертировавшим из Второй Пехоты и вновь завербовавшимся в Седьмую под именем Чарльза Врангеля. Будучи разоблаченным, ему позволили вновь принять присягу, на этот раз под собственным именем. слишком скуп. Тогда однажды они заперли его. Когда Фостер попытался выбраться через окно, ученики угрожали ему горячей лопатой для угля. Их всех наказали за это, за исключением Джорджа. “Он находился дома в учении. Всегда в учении...”.
слишком скуп. Тогда однажды они заперли его. Когда Фостер попытался выбраться через окно, ученики угрожали ему горячей лопатой для угля. Их всех наказали за это, за исключением Джорджа. “Он находился дома в учении. Всегда в учении...”. Все, знавшие Кастера, сходятся на том, что он был необычайно энергетичен. Похоже, его сотворили из плоти, невосприимчивой к усталости. Во время путешествия по Черным Холмам Ладлоу часто доводилось наблюдать, как генерал хватает топор и работает наравне с нижними чинами. Он мог читать военные донесения или отгонять лампой койотов, когда все в лагере давно уже спали. Кастер был склонен к преувеличениям, говорил Ладлоу, но не из желания представить что-либо в ложном свете, а поскольку видел вещи крупнее, чем они были на самом деле. У него была исключительная память: “Он мог припомнить в правильной последовательности каждую деталь любой акции, неважно, сколь отдаленной по времени, в которой принимал участие”.
Все, знавшие Кастера, сходятся на том, что он был необычайно энергетичен. Похоже, его сотворили из плоти, невосприимчивой к усталости. Во время путешествия по Черным Холмам Ладлоу часто доводилось наблюдать, как генерал хватает топор и работает наравне с нижними чинами. Он мог читать военные донесения или отгонять лампой койотов, когда все в лагере давно уже спали. Кастер был склонен к преувеличениям, говорил Ладлоу, но не из желания представить что-либо в ложном свете, а поскольку видел вещи крупнее, чем они были на самом деле. У него была исключительная память: “Он мог припомнить в правильной последовательности каждую деталь любой акции, неважно, сколь отдаленной по времени, в которой принимал участие”. Первым членом семейства, достигшим Америки, стал фермер и масон из Калденкирхена, Рейнланд[273], Пауль Кюстер, покинувший деревню Крифилд в 1684 году с женой Гертрудой и четырьмя детьми. Они и двадцать восемь других эмигрантов осели, весьма логично, в Джермантауне[274], Пенсильвания. Это и привело к тому, что полутора веками позже, в Нью-Рамли, Огайо, родился Джордж Армстронг Кастер.
Первым членом семейства, достигшим Америки, стал фермер и масон из Калденкирхена, Рейнланд[273], Пауль Кюстер, покинувший деревню Крифилд в 1684 году с женой Гертрудой и четырьмя детьми. Они и двадцать восемь других эмигрантов осели, весьма логично, в Джермантауне[274], Пенсильвания. Это и привело к тому, что полутора веками позже, в Нью-Рамли, Огайо, родился Джордж Армстронг Кастер. Как нельзя удивляться тому, что сын солдата подражает воинской жизни своего отца, так не может удивить - принимая во внимание подобное детство - и письмо, написанное Кастером в 1863 году из Виргинии: “О, если бы ты только могла видеть некоторые из проведенных атак! Думая о них, я не могу не воскликнуть: ‘Славная война!’... Я отдал команду: ‘Вперед!’. Не думаю, что когда-либо увижу более красивую картину. Я постоянно поворачивался в седле, чтобы поглядеть на сверкающие сабли...”.
Как нельзя удивляться тому, что сын солдата подражает воинской жизни своего отца, так не может удивить - принимая во внимание подобное детство - и письмо, написанное Кастером в 1863 году из Виргинии: “О, если бы ты только могла видеть некоторые из проведенных атак! Думая о них, я не могу не воскликнуть: ‘Славная война!’... Я отдал команду: ‘Вперед!’. Не думаю, что когда-либо увижу более красивую картину. Я постоянно поворачивался в седле, чтобы поглядеть на сверкающие сабли...”. Те слова исходят из ума настоящего американского романтика девятнадцатого века - розового, взращенного на сентиментальности, безупречного продукта своей эпохи. Помогая похоронить вермонтского солдата, которому прострелили сердце, он сочувствовал вдове этого человека и, не желая залезать рукой в карманы мертвеца, приказал разрезать их и забрать несколько личных предметов. “Затем я срезал локон его волос и отдал их его другу из того же самого города, пообещавшему отослать локон жене убитого. В то время, когда он лежал там, я вспоминал ту поэму: “Позволь мне поцеловать его за его мать...”, и мне хотелось бы, чтобы мать погибшего присутствовала там, дабы она могла разгладить ему волосы...”.
Те слова исходят из ума настоящего американского романтика девятнадцатого века - розового, взращенного на сентиментальности, безупречного продукта своей эпохи. Помогая похоронить вермонтского солдата, которому прострелили сердце, он сочувствовал вдове этого человека и, не желая залезать рукой в карманы мертвеца, приказал разрезать их и забрать несколько личных предметов. “Затем я срезал локон его волос и отдал их его другу из того же самого города, пообещавшему отослать локон жене убитого. В то время, когда он лежал там, я вспоминал ту поэму: “Позволь мне поцеловать его за его мать...”, и мне хотелось бы, чтобы мать погибшего присутствовала там, дабы она могла разгладить ему волосы...”.