
|
|
ОБ УСПЕХАХ, ОШИБКАХ И ПРОЧЕМ 17 главаВ начале февраля В. Э. приглашал меня по телефону прийти на репетицию «Риголетто». Я обещаю, собираюсь, сам не знаю почему, из-за разных пустяков откладываю это со дня на день и, наконец, в начале марта читаю в газете о состоявшейся премьере. Мне очень неловко, но я звоню В. Э. и поздравляю его. — Что же вы не пришли? А я вас ждал. Я и в театре Мне очень стыдно. Я что-то бормочу. — Ну, приходите посмотреть спектакль. Там есть и Это была последняя постановка Мейерхольда — спектакль, начатый К. С, но поставленный и выпущенный В. Э. «Риголетто» с успехом шел долгое время, до самой войны. Впрочем, была еще одна работа, «премьера» которой состоялась уже после ареста В. Э. Летом 1939 года уже для заработка он согласился поставить какое-то театрализованное «действо» со студентами Института им. Лесгафта в Ленинграде. Он привлек своим ассистентом бывшего актера и танцора ГосТИМа Зо-симу Злобина, знатока и преподавателя биомеханики, и все лето ездил в Ленинград, живя там в доме Ленсовета на Кар-повке, в квартире, которую еще в 1934 году предоставил ему С. М. Киров, уговаривавший его тогда совсем перебраться в Ленинград. В ней он и был арестован в ночь на 20 июня 1939 года. А через месяц — 18 июля — в Москве состоялся традиционный физкультурный парад, на котором студенты Института им. Лесгафта показали законченное Злобиным «действо». Это-то и была самая последняя «премьера» Мейерхольда. Ее я тоже не видел, но зрителями ее были десятки тысяч людей, в том числе Берия и подписавший ордер на арест Мейерхольда Меркулов. Отношения Станиславского и Мейерхольда — тема для отдельной большой работы. В них было все: утро взаимного увлечения («Мейерхольд — мой любимец»,— пишет Станиславский Немировичу-Данченко летом 1898 года, накануне открытия МХТ), долгий день, полный будней охлаждения, новой близости, гневных споров; и вечер — патриархальная величественная старость одного и неугомонная вечная молодость другого — и, наконец, последний эпизод — начало нового сотрудничества и дружбы. Я не раз записывал рассказы Мейерхольда о Станиславском. Один из этих рассказов В. Э. заключил фразой: «Никогда не станешь сам мастером, если не сумел быть учеником». Учеником Мейерхольд быть «сумел». Он жадно впитывал уроки Станиславского. «Алексеев не талантли-ливый, нет. Он гениальный режиссер-учитель». Он был самым пытливым и зорким из числа тех, кто присутствовал на репетициях в молодом Художественном театре. И дальше, в течение всей своей жизни, он непрестанно оглядывался на Станиславского, примеряясь к нему, иногда споря с ним, часто отталкиваясь от него и снова у него учась. Э. П. Гарин, вспоминая одно из посещений Станиславским ГосТИМа осенью 1926 года, рассказывает, что они, мейерхольдовцы, привыкшие относиться к Мейерхольду, как к «мэтру», как к некой верховной инстанции, ВДРУГ вдруг увидели, как «мэтр» превратился в мальчишку, не умеющего скрыть своего волнения и потерявшего всякую уверенность осанки. Он и до конца жизни сохранил во всей свежести это чувство высокого ученичества, которое не имеет ничего общего с вечным школярством. Их слишком часто противопоставляли друг другу, в то время как гораздо плодотворнее изучить, как они дополняли друг друга. Все сказанное Станиславским в последний год жизни о Мейерхольде сказано, разумеется, не только под влиянием нахлынувших личных чувств (хотя и это что-то тоже говорит!). Думать так — значит недооценивать принципиальность и последовательность Станиславского в искусстве. Е. Б. Вахтангов в своем дневнике пытался однажды сравнить Станиславского и Мейерхольда как режиссеров, хотя такие сравнения никогда не бывают убедительными. С Вахтанговым Мейерхольд был знаком всего год-полтора, но сохранились высказывания обоих мастеров, свидетельствующие об их большом взаимном уважении и тяготении друг к другу. Вот запись, сделанная Вахтанговым в дневнике 26 марта 1921 года, то есть совсем незадолго до смерти: «Какой гениальный режиссер, самый большой из доселе бывших и существующих. Каждая его постановка — это новый театр. Каждая его постановка могла бы дать целое направление. Конечно, Станиславский как режиссер меньше Мейерхольда. <...> Он не сравним со Станиславским, он почти гениален. Мейерхольд дал корни театрам будущего. Будущее и воздаст ему. Мейерхольд выше Рейн-хардта, выше Фукса, выше Крэга и Аппиа <...> Все театры ближайшего будущего будут построены и основаны так, как давно предчувствовал Мейерхольд. Мейерхольд гениален. <...> У Мейерхольда поразительное чувство пьесы. Он быстро разрешает ее в том или другом плане. И план всегда таков, что им можно разрешить ряд однородных пьес». Запись эта гораздо длиннее, в ней Вахтангов подробно разбирает недостатки Станиславского-режиссера (и Мейрхольда — более бегло), но в данном случае нет нужды приводить ее целиком. Кстати, не пора ли, наконец, полностью опубликовать дневники и письма Вахтангова, а то ему часто приписывают убеждения, противоположные тому, что было в действительности. Всего за полтора месяца до смерти,- уже после триумфа «Турандот», прикованный к постели Вахтангов в беседе со своими учениками неоднократно вспоминал о Мейерхольде в связи с попыткой разобраться в том, что является подлинной и ложной «театральностью». «Из всех режиссеров русских единственный, кто чувствовал театральность,— это Мейерхольд. Он в свое время был пророком и потому не был принят. Он давал вперед не меньше как на десять лет. Мейерхольд делал то же самое, что и Станиславский. Он тоже убирал театральную пошлость, но делал это при помощи театральных средств. Условный театр был необходим для того, чтобы сломать, уничтожить театральную пошлость. Через убирание театральной пошлости условными средствами Мейерхольд пришел к настоящему театру». Далее Вахтангов остро отмечает слабость позиции Мейерхольда начала двадцатых годов: «Константин Сергеевич, увлекаясь настоящей правдой, принес на сцену натуралистическую правду. <...> Но, увлекаясь театральной правдой, Мейерхольд убрал правду чувств, а правда должна быть и в театре Мейерхольда и в театре Станиславского». И еще: «Мейерхольд никогда не чувствовал «сегодня»; но он чувствовал «завтра». Константин Сергеевич никогда не чувствовал «завтра», он чувствовал только «сегодня». А нужно чувствовать «сегодня» в завтрашнем дне и «завтра» в- сегодняшнем». Можно легко оспорить точку зрения Вахтангова в этом последнем утверждении, но не следует забывать, что это говорилось в дни, когда еще только шли последние репетиции «Великодушного рогоносца», увидеть которого Вахтангов не успел и судил Мейерхольда главным образом по предреволюционным спектаклям, оказавшим на него большое влияние. (В одном из писем Вахтангов называет «Балаганчик», «Незнакомку» и «Шарф Коломбины», за которые он «полюбил» Мейерхольда как художника.) Формула о Мейерхольде, устремленном только в «завтра», и Станиславском, который видит только «сегодня», слишком литературно эффектна, и противопоставление в духе Гюго двух художников весьма условно и неточно, но характерна настойчивая попытка Вахтангова разобраться в искусстве гениального мастера и его великого ученика и найти между ними свое место. В напряженные дни выпуска почти одновременно «Гадибука» в студии «Габима» и «Принцессы Турандот» в своей студии — этот великолепный последний творческий бросок Вахтангова навсегда останется одной из прекраснейших легенд в истории театра — Вахтангов писал Мейерхольду, приглашая его посмотреть оба спектакля: «Вам не понравится ни то, ни другое: в первом нет определенности, второе недостойно Вашего внимания, потому что слишком субъективно». В этом трогательнейшем по скромности признании — не только вечный жест подлинного художника, всегда недовольного собой, но и выражение великого доверия к собрату по искусству. Один из участников «Гадибука», А. М. Карев, вспоминая свою последнюю встречу с Вахтанговым, уже тяжело болевшим и предвидевшим трагический исход болезни, рассказал, что, прощаясь со студийцами «Габима», он сказал: «Теперь поработайте с Мейерхольдом». Когда Вахтангов умер, Мейерхольд напечатал в журнале «Эрмитаж» статью-некролог под знаменательным названием «Памяти вождя». «Вахтангов, конечно, был с нами, не мог не быть с нами,— пишет Мейерхольд.— Как много сделал этот мастер для того, чтобы дать театру то, чего ему недоставало». Примечателен торжественный и сурово-лаконичный стиль этой статьи. Так прощаются с погибшим соратником. Она похожа на почетное отдание чести, на воинский траурный салют, на монолог Фортинбраса. Этот оттенок не случаен. С полушутливой интонацией он звучит и в стиле немногих писем, которыми обменялись Вахтангов и Мейерхольд. Однажды зимним вечером в начале 1922 года, этого необыкновенного в летописях русского театра года — года «Гадибука», «Принцессы Турандот» и «Великодушного рогоносца»,— В. Э. Мейерхольд и 3. Н. Райх без предупреждения зашли в помещение Третьей студии на Арбате и, не застав Вахтангова, оставили ему записку. Она начинается так: «Любимый аgСо11е#Collega, в Вашем тихом кабинете беседовал (и отдыхал) с солдатами Вашей Армии...» и заканчивается: «Скоро ли поговорите со студентами ГВЫРМа. Вас очень ждут солдаты моей Армии». Через несколько дней Вахтангов, выдерживая этот стиль, отвечал Мейерхольду: «Скажите солдатам своей Армии, что я болен чрезвычайно (снова открылась язва желудка и припадки без конца). Обнимаю Вас нежно, если позволите. <...> Любящий Вас Е. Вахтангов». Начинается это письмо так: «Дорогой, любимый Мастер! Неизменно благодарный Вам за все, что Вы делаете в театре...» Я привожу эти взаимно восторженные обращения потому, что всегда поучительно и своевременно вспоминать о дружбе настоящих больших художников, далекой от счета самолюбий и ревнивого соревнования в успехе. Зная, что он скоро умрет, Вахтангов завещал своим ученикам в трудные минуты обращаться за советом к Мейерхольду. И Мейерхольд всегда был желанным гостем в молодой Третьей студии и впоследствии в Театре имени Вахтангова. Его там можно было видеть не только на премьерах среди других почетных гостей, но и на репетициях. Он корректировал «Льва Гурыча Синичкина» — первую режиссерскую работу молодого Р. Н. Симонова. В спектакле «Марион де Лорм» им была поставлена целая сцена. Но это был не снисходительный, а требовательный друг. Он восхищался крепнущим дарованием Щукина (впрочем, справедливости ради надо сказать, что в роли Ленина он гораздо выше ставил Штрауха, недостатком исполнения Щукиным роли Ленина он считал «сентиментальность»), но резко критиковал такие спектакли, как «Коварство и любовь», и «Гамлет». Говоря в своем некрологе: «Вахтангов, конечно, был с нами», Мейерхольд имел в виду и расстановку общественных сил на театре в эти годы. В 1955 году, незадолго до своей смерти, М. А. Чехов напечатал воспоминания о Мейерхольде. В этих воспоминаниях, в целом крайне субъективных и путаных, мемуарист пишет и об отношениях Мейерхольда и Вахтангова. М. А. Чехов был близким другом Вахтангова, и свидетельство его ценно.
«Вахтангов,— пишет М. А. Чехов,— и сам признавал свою художественную зависимость от Мейерхольда. Всегда было волнительно и трогательно видеть взаимные уважение и любовь этих двух смелых мастеров. Он (Вахтангов.— А. Г.) понимал, что быстрое развитие его режиссерского таланта в значительной степени зависело от того, что Мейерхольд шел впереди него, «уча» и вдохновляя его... Оба художника сцены дополняли друг друга. И еще в одном отношении оба они разделяли судьбу воистину больших художников. Один мудрый человек сказал: три условия, три принципа необходимы для духовного развития: большие цели, большие препятствия и большие примеры. Первый из этих принципов был свойствен обоим художникам; второй выпал на долю Мейерхольда. Но Вахтангов не был холодным, безучастным наблюдателем борьбы Мейерхольда с внешними и внутренними препятствиями, он сострадал с Мейерхольдом. Третий принцип был счастливым уделом Вахтангова. Но я не сомневаюсь, что и Вахтангов вдохновлял Мейерхольда своими «примерами», своими блестящими постановками». Многое верно здесь, кроме одного. Мейерхольд, как и Вахтангов, тоже всегда имел перед своими глазами большой пример Станиславского. Пора рассеять живучую легенду об антагонизме в отношениях между обоими великими художниками. Мы теперь слишком много знаем об их взаимном тяготении друг к другу, чтобы повторять навязшие в зубах банальности. Лжеисторики эпохи «культа» немало потрудились над тем, чтобы загримировать неуемного, страстного, упрямого Станиславского в некое подобие безобидного и добренького святочного деда, а широкого, разностороннего, высококультурного, связанного с большими традициями театра. Мейерхольда — в беспринципного нигилиста, лишенного корней и высоких целей. Недавно опубликованная (и еще далеко не полностью) переписка Станиславского показывает, что гениальный мастер и в последние годы был далек от эпического спокойствия и самоудовлетворенности. Сквозь все его письма последних лет проходит нарастающая тревога за судьбу МХАТа и откровенно высказываемое сомнение в том, смогут ли молодые мхатовцы достойно принять и продолжить наследие «стариков». В свете этих настроений куда менее неожиданным кажется факт, последнего предсмертного союза Станиславского и Мейерхольда. Осенью 1938 года почти при каждой встрече с Мейерхольдом мы с ним много говорили о Станиславском. Муж дочери В. Э. В. В. Меркурьев рассказывал, как вскоре после похорон Станиславского он ночевал в одной комнате с Мейерхольдом в его московской квартире и, проснувшись среди ночи, увидел В. Э., неподвижно сидящего и смотрящего при свете зажженной свечи на газетный лист с фотографией Станиславского в гробу. Мейерхольд так глубоко задумался, что Меркурьев не решился его окликнуть. Какие воспоминания пробегали перед ним в этот скорбный ночной час? Его мысли не могли быть элегически спокойными. Он не мог не понимать, что со смертью Станиславского должны были рухнуть его надежды на возобновление большой творческой работы в театре: только огромный авторитет и упрямая воля К. С. могли содействовать осуществлению вынашиваемых Станиславским планов о возвращении В. Э. в Художественный театр и создании в нем экспериментального филиала. На протяжении своей жизни они и сходились и расходились во взглядах, но неизменно общим у них было то, что сформулировал сам Станиславский в одном из писем к Мейерхольду: «Где работа и искания — там и борьба». 4 — 9 апреля 1939 года,* в самом конце сезона, в Оперном театре имени Станиславского, главным режиссером которого с начала зимы уже был Мейерхольд, состоялось производственно-творческое совещание, на котором он сделал большой доклад.
Сохранилась стенограмма доклада, несовершенная и не слишком точная, как все не правленныеправленые мейерхольдов-ские стенограммы. Живая речь В. Э. выразительно дополнялась в его публичных выступлениях мимикой и жестом, без которых она часто кажется непонятной. В этом докладе Мейерхольд среди прочего рассказывает о мотивах, заставивших его в трудный момент жизни прийти к Станиславскому... — Я сказал себе, что мне интересно, во-первых, посмотреть, что (есть) в моем художественном опыте длинной жизни — не все же у меня было скверное, ведь есть и хорошее. Я поднесу Константину Сергеевичу вот на этом блюдечке это хорошее. Вот, у меня маленький участок, как пепел,— остальное дрянь. (Эта фраза совершенно непонятна, если не представить, как В. Э. взял со стола пепельницу, похожую на блюдечко, и сыграл, что и как он будет преподносить Станиславскому.— А. Г.) Дрянь выбросить можно. А нельзя ли сделать, чтобы это маленькое тоже вам принесло пользу, Константин Сергеевич? А я хитрый, возьму от вас. Я давно у вас учился. С тех пор с вами не встречался. Я возьму для себя кое-что.
Мейерхольд далее рассказывает о самой значительной из его бесед со Станиславским весной 1938 года. — Он говорил полтора часа. Потом предоставил слово мне. И я говорил полтора часа. Он многого не знал из того, что я сказал. «Ах, черт! Вот над этим никто у нас не работал!». А я слушал его, вбирал в себя. Это была настоящая атмосфера дела, когда два художника обмениваются опытом. <...> Константин Сергеевич сказал: «Не намерены ли вы меня ревизовать?» Я сказал, что буду с ним согласовывать. На это он ответил: «Я думал, что вы сами будете производить бунт. У меня есть Моцгсартовский зал. Хорошо начать там ставить маленькие моцартовские оперы. Пусть там штампы, рутина, а мы будем вентилировать свежим воздухом театр». Он говорил: «Мы без занавеса будем играть». Это он хотел мне приятное сказать. В стенограмме тут отмечено: «Смех. Аплодисменты». Так и вижу знакомые веселые искорки в глазах Мейерхольда и слышу его голос, лезущий вверх, как всегда, когда он говорит о тех, кого любит... В дни столетней годовщины со дня рождения К. С. Станиславского в наших газетах было напечатано приветствие японского режиссера Сэки Сано, руководящего театром в столице Мексики — городе Мехико. Я помню очень хорошо молчаливого, скромного, аккуратного, хромающего на правую ногу, в огромных роговых очках японца, несколько лет просидевшего на репетициях в ГосТИМе. Попал он в наш театр необычно, и его появление связано со Станиславским.
УЧЕНИКИ Я спросил как-то раз В. Э. Мейерхольда, кого ояy счита*вет
Он ответил без секунды раздумия:
— Зинаиду Райх! Я сдержал улыбку, но, кажется, он о ней догадался. И добавил: — И Эйзенштейна... : — И это все, Всеволод Эмильевич? — А что вам, мало? Один Эйзенштейн — целая ака Так разговор из шуток и не вышел. Он не любил этой темы или, вернее, не очень любил учеников. Не чувствуя в себе никакой маститсости, он не терпел назойливого подчеркивания своего учительства, как моложавая мать не любит рядом с собой взрослых дочерей. Через некоторое время я снова задал ему тот же вопрос. Он ответил еще более неожиданно: — Таиров, Радлов, Охлопков... Судить меня за таких Он нарочно назвал имена своих тогдашних противников: разговор происходил в 1936 году. Опять шутка, да еще какая свирепая... Но я в третий раз вернулся к этой теме, выбрав момент, ' когда, мне казалось, он забыл наши прежние разговоры, и несколько иначе сформулировал вопрос. На этот раз он назвал мне имена трех актеров ГосТИМа: скажем, М., Ф. и С. Они ничего не представля'ли из себя творчески, но Мейерхольд умело использовал их индивидуальности как краски в спектаклях. По существу же, их даже было трудно назвать актерами. Короче, это был не ответ, а издевательство, и не столько надо мной, сколько над самим собой. Я не любил в нем этого настроения иронической злости и замолчал. Он посмотрел на меня внимательно серыми смеющимися глазами. — Никогда не называйте себя моим учеником. Замечено, что это не приносит счастья. Я был моложе его почти на сорок лет, но на даримых мне книгах и портретах он всегда писал «другу» или «дружески». Однажды я принес ему на подпись бумажку с хода
Я знаю только два случая, когда он слово «ученик» употребил в положительном смысле: первый раз, посвящая режиссерскую работу над «Великодушным рогоносцем» «ученице-другу 3. Н. Райх», и еще, когда надписывал летом 1936 года свой портрет С. М. Эйзенштейну: «Горжусь учеником, уже ставшим мастером. Люблю мастера, уже создавшего школу. Этому ученику, этому мастеру — С. Эйзенштейну мое поклонение. Вс. Мейерхольд». (Сейчас этот портрет хранится в эйзенштейновском фонде в ЦГАЛИ.) Это все, конечно, неверно. Учеников у Мейерхольда было много, почти так же много, как у Станиславского. Добрая половина кинематографистов старшего поколения — ученики Мейерхольда. И театральных режиссеров — из поколения, уже выбывающего физически из строя и еще находящегося в строю. Актеры — его ученики — работают в Малом театре, в Художественном, в Театре Вахтангова, в Театре Советской Армии, в Театре Маяковского, в Театре сатиры, в труппах киностудий, в числе преподавателей театральных институтов. Уже прошло то время, когда люди задумывались, прежде чем вписать имя Мейерхольда в анкету отдела кадров в ответе на вопрос, где учился или работал. Мне кажется, что Мейерхольд открещивался от своих учеников только потому, что он сам еще не хотел переставать чувствовать себя учеником. Он все время ставил себе в своем искусстве новые задачи, и ему мешала преждевременная маститость, седины наставника, покой всезнания. Вспоминаю его фразы о неприличии позы зазнавшегося «мэтра», о том, что он, как юнец, дрожит перед каждой премьерой|, о том, насколько еще больше в искусстве театра область того, что он не знает, по сравнению с тем, что он знает. Он говорил, что самое лучшее в искусстве — это то, что в нем на каждом новом этапе опять чувствуешь себя учеником... Он любил говорить об ученичестве как о самом прекрасном возрасте художника, об умении «быть учеником», с восторгом вспоминал своих учителей и не только Станиславского и Немировича-Данченко, но и мастеров старого Малого театра, которыми он восхищался с галерки, и писателей, которых любил в юности и позднее. И Маяковского и Блока, которые были моложе его, он тоже иногда называл своими учителями. Он любил в себе «ученика», который ощущает себя дебютантом, любил свое волнение, любил удивляться и восхищаться, ахать, восклицать: «Ох, как это интересно!», любил новое, любил неожиданности, странности, любил непонятное, вернее, еще непонятое, любил понимать, узнавать, добиваться... И даже в те периоды его биографии, когда он «учительствовал» в самом прямом смысле этого слова: в петроградской Студии на Бородинской перед революцией, на курсах Мастеров сценических постановок в революционном Петрограде в 1918/19 году или в ГВЫРМе и ГВЫТМе в 1921 — 1923 годах в Москве,— он не «обучал», а, скорее «уча», учился сам, и естественно, что результатами такого учения были не экзамены и дипломы, а новые спектакли. Позднее он стал называть свой театр — ГосТИМ конца двадцатых годов — «театром-школой», подчеркивая этим неотделимость творческого процесса от собственно «обучения». К этом типу театра, в котором «учитель» не только передает какие-то знания, а, уча, учится сам в процессе создания новых спектаклей, он мечтал вернуться в новом здании ГосТИМа и планировал его внутреннее устройство, исходя из этой задачи. И придя в 1938 году вновь к Станиславскому, он тоже пришел, чтобы еще чему-то поучиться, опять на какие-то недели и месяцы стать учеником; самым любопытным, самым внимательным, самым зорким, вечным учеником, с которым он не хотел в себе расстаться.
Он с раздражительным недружелюбием относился больше всего как раз к тем из своих учеников, которые сами уже претендовали на то, чтобы считаться мастерами, «мэтрами», учителями. Он сурово называл их самозванцами, дилетантами, недоучками. Отношение к С. Эйзенштейну — исключение. Трудно и смешно было бы оспорить его мировую славу, да и то, что Эйзенштейн добился признания не в театре, а в кино, существенно меняло дело. Останься Эйзенштейн в театре, вряд ли В. Э. стал бы относиться к нему по-иному, чем к Таирову или Охлопкову. Когда близкие иногда упрекали его в «непедагогичности» каких-то его поступков или высказываний и ставили ему в пример Станиславского, то и тут (несмотря на то, что он бесконечно уважал Станиславского и любил) В. Э. начинал, защищаясь, утверждать, что Станиславский стал педагогом по преимуществу только потому, что заболел. Как человек когда-то создавал образ бога по собственному подобию, так и Мейерхольд хотел видеть своего любимого учителя таким же, каким он был сам. Прочитайте его статью «Одиночество Станиславского»: изображенный в ней К. С. Станиславский очень чем-то напоминает самого автора статьи. Не так уж много можно узнать из этой статьи о Станиславском и очень многое понять в Мейерхольде. Как сильная, ярко выраженная личность, как человек, к своим шестидесяти с половиной годам еще не насытившийся ни актерством, ни режиссурой, не начитавшись, не наглядевшись на природу, людей, птиц, собак, не наслушавшись музыки, полный жажды работать, жить, познавать и учиться, Мейерхольд не мог и не хотел понять тех, кто, удовлетворившись узнанным и достигнутым, считал, что с него довольно. Это-то больше всего и раздражало его в тех своих учениках, которых он именовал «так называемыми». Беда большинства мейерхольдовских учеников была как раз в том, что они были не столько учениками всего Мейерхольда, сколько учениками разных Мейерхольдов, Мейерхольдов отдельных периодов. Отсюда их односторонность и так раздражавшая его ограниченность. Один коренной «гвырмовец», видевший репетиции «Рогоносца», участвовавший в массовках в «Зорях» и «Земле дыбом», помогавший за сценой в «Смерти Тарелкина» и впитавший в себя «крайне левого» Мейерхольда 1921 —1923 годов, рассказывал мне, что он был потрясен, увидев впервые возобновленный в Александрийском театре «Маскарад». Ему долго казалось, что одно исключает другое. Так многим ученым, открывавшим в XX веке новые физические законы, казалось, что каждое новое открытие исключает и перечеркивает всю предыдущую науку. Может быть, преимущество Эйзенштейна как раз заключалось в том, что он, учившийся в Петрограде, сначала увидел «Маскарад», а потом пришел в ГВЫРМ, и его восприятие Мейерхольда с первых дней занятий было синтетично. Он уже знал оба полюса искусства В. Э.: зрелищную роскошь, изобилие красок и романтическую манеру игры в «Маскараде» и постановочный аскетизм и очищенную, граничащую с эксцентриадой, скупую и одновременно смыслово многослойную манеру актерского исполнения «Рогоносца» — сценический стиль «Ильбазай» (Ильинский — Бабанова — Зайчиков), как называли театральные критики тогда эту манеру. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
 Японский революционер, подпольщик, деятель левых рабочих театров, Сэки Сано в начале тридцатых годов был членом существовавшего тогда Международного объединения рабочих театров. Руководство этого Международного объединения занимало две крошечные комнатушки в одном из верхних этажей ГУМа (где тогда не было магазина). Приехав в Москву по делам этого Объединения (распущенного в 1938 году), Сэки Сано попал на спектакль МХАТ, увлекся и решил остаться в Москве. Он пришел к Станиславскому и сказал ему, что хочет у него учиться. С сомнением посмотрев на прихрамывающего Сэки (так мы все звали его тогда), К. С. спросил, какие же роли он хочет играть. Сэки пояснил, что он хочет учиться искусству режиссера. «Тогда идите сначала к Мейерхольду, поучитесь у него, а потом уже приходите ко мне»,— сказал ему Станиславский. Сэки пришел к Мейерхольду. В. Э., разумеется, был в восторге: во-первых, к нему пришел учиться японский режиссер (а интерес Мейерхольда к восточному театру всегда был очень велик), во-вторых, его прислал Станиславский, в-третьих, Станиславский находит, что школа Мейерхольда нужна и полезна... И Сэки стал аккуратно ходить на все репетиции. Постепенно он включился в ассистентскую работу, активно занимался изучением реакции зрительного зала, вел записи. После закрытия ГосТИМа он некоторое время занимался в Студии Станиславского, потом исчез из Москвы. Говорили об его исчезновении разное: лучшей, но не самой вероятной версией был его отъезд добровольцем в Испанию, где тогда шла гражданская война. Так или иначе, больше о молчаливом, тихом, очкастом Сэки мы ничего не слышали. Но слухи оказались верными: Сэки был в Испании, потом попал в Южную Америку и стал руководить в Мехико театром, этот удивительный японец, ученик и Станиславского и Мейерхольда, о жизни которого можно было бы написать роман. К сожалению, мы ничего не знаем о созданном им театре, но на его судьбе знаменательно скрестились влияния обоих гениев русского театра, и сам Сэки Сано, вспоминая, как он четверть века назад учился в Москве, считает себя учеником и Станиславского и Мейерхольда.
Японский революционер, подпольщик, деятель левых рабочих театров, Сэки Сано в начале тридцатых годов был членом существовавшего тогда Международного объединения рабочих театров. Руководство этого Международного объединения занимало две крошечные комнатушки в одном из верхних этажей ГУМа (где тогда не было магазина). Приехав в Москву по делам этого Объединения (распущенного в 1938 году), Сэки Сано попал на спектакль МХАТ, увлекся и решил остаться в Москве. Он пришел к Станиславскому и сказал ему, что хочет у него учиться. С сомнением посмотрев на прихрамывающего Сэки (так мы все звали его тогда), К. С. спросил, какие же роли он хочет играть. Сэки пояснил, что он хочет учиться искусству режиссера. «Тогда идите сначала к Мейерхольду, поучитесь у него, а потом уже приходите ко мне»,— сказал ему Станиславский. Сэки пришел к Мейерхольду. В. Э., разумеется, был в восторге: во-первых, к нему пришел учиться японский режиссер (а интерес Мейерхольда к восточному театру всегда был очень велик), во-вторых, его прислал Станиславский, в-третьих, Станиславский находит, что школа Мейерхольда нужна и полезна... И Сэки стал аккуратно ходить на все репетиции. Постепенно он включился в ассистентскую работу, активно занимался изучением реакции зрительного зала, вел записи. После закрытия ГосТИМа он некоторое время занимался в Студии Станиславского, потом исчез из Москвы. Говорили об его исчезновении разное: лучшей, но не самой вероятной версией был его отъезд добровольцем в Испанию, где тогда шла гражданская война. Так или иначе, больше о молчаливом, тихом, очкастом Сэки мы ничего не слышали. Но слухи оказались верными: Сэки был в Испании, потом попал в Южную Америку и стал руководить в Мехико театром, этот удивительный японец, ученик и Станиславского и Мейерхольда, о жизни которого можно было бы написать роман. К сожалению, мы ничего не знаем о созданном им театре, но на его судьбе знаменательно скрестились влияния обоих гениев русского театра, и сам Сэки Сано, вспоминая, как он четверть века назад учился в Москве, считает себя учеником и Станиславского и Мейерхольда.

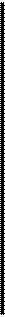 Иногда в своих докладах и речах он говорил: «мои так называемые ученики», то есть упоминал об учениках только затем, чтобы от них отмежеваться и дать понять, что он не хочет нести за них никакой ответственности.
Иногда в своих докладах и речах он говорил: «мои так называемые ученики», то есть упоминал об учениках только затем, чтобы от них отмежеваться и дать понять, что он не хочет нести за них никакой ответственности.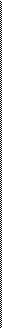 Конечно, среди многих поз, играемых им в жизни, была и эта поза — немножко рассеянного «мэтра» в очках (которых он в жизни еще не носил), но я уже рассказывал, как, придя однажды таким «мэтром» на экзамен актерского техникума, он, позевав час или полтора, когда начали показывать его любимый «Пир во время чумы», забыл эту позу, забыл педагогический церемониал, бросился на сцену, снял пиджак и начал «ставить» пушкинскую «маленькую трагедию», хотя это, наверное, было и «непедагогично» и вообще совершенно практически бессмысленно: «поставленное» никогда не было больше повторено. Просто он раньше не ставил «Пира во время чумы» (хотя и проектировал ставить на радио), и ему этого безудержно захотелось: не для учеников, не для нескольких зрителей, а для самого себя.
Конечно, среди многих поз, играемых им в жизни, была и эта поза — немножко рассеянного «мэтра» в очках (которых он в жизни еще не носил), но я уже рассказывал, как, придя однажды таким «мэтром» на экзамен актерского техникума, он, позевав час или полтора, когда начали показывать его любимый «Пир во время чумы», забыл эту позу, забыл педагогический церемониал, бросился на сцену, снял пиджак и начал «ставить» пушкинскую «маленькую трагедию», хотя это, наверное, было и «непедагогично» и вообще совершенно практически бессмысленно: «поставленное» никогда не было больше повторено. Просто он раньше не ставил «Пира во время чумы» (хотя и проектировал ставить на радио), и ему этого безудержно захотелось: не для учеников, не для нескольких зрителей, а для самого себя.