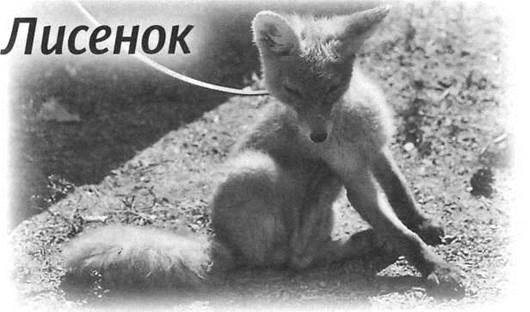|
|
Бивис, Батхед и прикладная химия
Иван Иваныч — из приезжих. Давным-давно, сразу после института, распределился в небольшую деревеньку в качестве учителя химии и добросовестно трудился в школе уже не один десяток лет. В тот день от химика приятно пахло свекольным самогоном. Он сидел за своим столом-кафедрой и вдохновенно разглагольствовал перед восьмым классом о пользе химии: — Вот вы, разгильдяи, учиться совсем не хотите. Бездельники. — Его речь спокойна и сладка. В классе человек пятнадцать. Им приятно видеть любимого учителя в незлом тихом настроении. А тот слегка косит, поправляет вытертый галстук времен Леонида Ильича и ласково поучает: — Химия — величайшая наука! Если бы вы, лоботрясы, только знали, сколько полезного можно получить от нее! В углу класса, через две парты ото всех, коротают время на своей «Камчатке» два второгодника: Бивис и Батхед. Вообще-то родители назвали их Вовкой и Витькой, но по именам их никто не звал. Поразительное сходство с героями развеселого мультфильма сработало, и теперь для одноклассников глупый Вовка был Бивисом, а тормозной Витька — Батхедом. Приятелей это ничуть не смущало. Их вообще мало что смущало в жизни, и поэтому теперь, когда одноклассники занимались кто рисованием, кто маникюром, кто просто игрой в подкидного дурака, они играли в мышь. Нет, не в компьютерную! В обычную серую мышь, ловко изловленную Бивисом в школьной столовой. Они привязали к ее хвосту магнит, отломанный намедни от репродуктора в коридоре. Обоих веселило, когда несчастный грызун надрывался, еле-еле волок тяжеленную ношу по шершавой парте. Всем монолог химика — до лампочки. А тот все говорит и говорит. Даже раскрывает «лоботрясам» кое-какие «военные тайны»: — Вот вы, бездельники, думаете, что глупая это наука, а? Ошибаетесь. Бесполезная? А? Снова мимо. Был я еще пацаном, ну вот вроде вас, так меня эта химия здорово забавляла! Вычитали мы с приятелем, как взрывы устраивать, смастерили нехитрую бомбочку и подбросили своему школьному директору в кабинет, прямо в окошко. То-то хохоту было! Правда, уши потом долго трещали и сидеть было больно. Вы спросите, как эту бомбочку сварганить? — Иван Иваныч окинул класс непослушными глазами и увидел, как на последней парте растопырили уши Вовка и Витька. — Ну что ж, скажу, все равно вы, олухи, ничегошеньки не запомните! Химики вы мои! Значит, так: берешь магний и напильником превращаешь его в опилки. Потом (это важно!) берешь перманганат калия и смешиваешь с опилками. Ну а потом — дело техники — закручиваешь все это в бумагу поплотней, фитиль туда... и поджигай... это же, братцы, химия! Гут соображать надо, а вы... Раздался звонок. Эх, как некстати! Наши Бивис и Батхед сегодня почти влюбились в эту самую химию. Когда они выходили из школы, оба были твердо уверены в том, что Иван Иваныч — «клевый мужик». Как делать бомбочку, приятели запомнили и потому двинули сразу в аптеку за этим... ну, как его... ну, в общем... короче... В крохотной деревенской аптеке над хилым выбором пилюль и колоссальным ассортиментом никому не нужных трав царила крупногабаритная дама, тоже из приезжих, по фамилии Гершелис. Предпенсионный возраст и феноменальная тучность делали ее спокойной. И хотя усы на ее лице устрашали, она все же была очень добра, особенно к детям. А посему, увидев вошедших Вовку и Витьку, она добродушно оскалила золотые фиксы и ласково пропела: — А! Мальчики, здгавствуйте! Володенька, как твой папа? Пегедай ему, что настойка календулы закончилась... — Да не, мы не за тем. Мы это... Нам по химии... Короче, надо этот, как его... Ну, скажи, Витек! Витек подкатил глаза и долго вспоминал мудреное научное название простой марганцовки. Наконец разразился: — Пергамот кальция! Во! Вовка взглянул на приятеля с уважением: «Голова, надо же, запомнил!» Аптекарша все поняла правильно: — Кальция, мальчики, нет. Вы лучше твогожок кушайте и гыбку, а беггамот где-то был. Ах, да вот он! Из гомеопатического шкафчика она извлекла крохотный сверточек с надписью «Бергамот» и какой-то зеленью на этикетке. Приятели взяли сверток, расплатились и, счастливые, отправились домой. Теперь все компоненты были припасены. Глаза у обоих блестели, ведь им не приходило в голову, что перманганат калия и «пергамот кальция» — вещи, в общем-то, разные. Такие же разные, как магний и магнит. Пилить магнит на опилки обычным напильником — дело нешуточное. За этим занятием друзья провели в Вовкином сарае не один час. Когда окончательно уморились и набили мозоли, Витька предложил: — Слышь, Упырь, чё-то не пилится. Давай так насыпем этого, как его... пергамота, да и все! — Точно! — подхватил Вовка. На альбомный лист они положили многострадальный магнит, насыпали на него бергамот — несчастную травку. В качестве кальция решили положить творожку, как советовала аптекарша. Для этого Вовка приволок из дома свежего, только что сваренного творога целую кастрюлю и вывалил ее на смесь магнита и «пергамота»: — Вот теперь — настоящий пергамот кальция! — Угу! Приятели завернули «гремучую смесь» в известный альбомный лист, обмотали сверток паклей, той, что хорошо тлеет. — Чем не фитиль?! — Угу! И отправились бомбить директорский кабинет. Вечером одноэтажное здание школы пустовало. В кабинете директора была открыта форточка. Бомбисты подожгли паклю — бикфордов шнур. Едкий вонючий дым попал в глаза, и они смекнули: «Пора бросать, не то рванет прямо в руках». «Взрывпакет» влетел в форточку и шмякнулся на директорский стол противной сырой лепешкой. Дым от тлеющей пакли наполнил кабинет и струился из форточки. Приятели залегли за углом и заткнули уши, «чтоб это... ну... не поконтузило». Ветер срывал с тополей последнюю желтую листву, гнал по небу табуны дородных облаков, похожих на аптекаршу. Месяц глядел вниз на малолетних террористов и улыбался. В эту октябрьскую ночь они разочаровались в людях и в правоте учительских слов. А главное, поняли, что химия — это отстой.
* * *
На следующий день, после шестого урока, уставший педагог — Иван Иванович — по привычке заглянул в кабинет к своему приятелю — школьному директору. Тот перебирал мокрые папки на столе, на которых блестели жирные пятна, кое-какие бумаги раскладывал на батарее для просушки. Уборщица Марьванна оттирала от стен творог. — Ты представляешь, Иван, какая-то падла швырнула на стол творога, чуть не кило. Да еще вперемешку с какой-то гадостью. Стал эту форчму со стола сгребать, смотрю — магнит, тот самый, что вчера от «матюгальника» отвинтили. Вот чудеса! Паленой паклей несет, хоть нос затыкай. Узнаю, чьих рук дело, — уши оборву и высеку! Иван Иваныч сначала посочувствовал, потом задумался, затем захихикал, а после захохотал так, что директор и Марьванна переглянулись. Он смеялся и смеялся так, что в конце концов от хохота прослезился. Полез в портфель за носовым платком и извлек оттуда завернутую в тот же платок знакомую мышь. Умерщвленную. Всю ученическую благодарность.
Словно блаженная Ксения
Память Божией угодницы — святой блаженной Ксении Петербургской — празднуется не так уж и часто. В начале февраля, когда Церковь, собственно, и чтит ее память, в наших краях обычно морозы. Бывает, идешь в храм рано утром, а небо настолько звездное, будто звездам пригрезился август и они высыпали свой «млечный путь» прямо над нашим селом. Трубы русских печек, высоко торчащие над железными крышами, словно стараются закоптить февральскую достопримечательность и одна активнее другой выпускают в звездное небо столбы угольного дыма. Холод пронизывает, и хруст снега под каблуками слышен в морозном воздухе далеко-далеко, кажется, что до самых звезд. Обычно бывает именно так, но в это февральское утро необычно все, даже погода. Раскисший снег, лужи. Ночью шел дождь, и теперь кругом стоит вода. Снежно-грязевая слякоть громко чавкает под размокшими ботинками, оглашая окрестность неприятными «мокрыми» звуками. В тумане утонуло все. Не видно ни высоких коптящих труб, ни креста над колокольней, ни самой колокольни. Ничего. Иду в храм, а сам думаю, что людей на литургии будет нынче совсем немного, в общем, как всегда. Будет Семеныч, еще пяток завсегдатаев да Димитрий, появившийся в нашем селе совсем недавно, с полгода назад. Этим постоянным прихожанам идти в храм ничто не мешает: ни дождь, ни мороз, ни огородный сезон, которым обычно нерадивые христиане прикрывают свою неохоту до богослужений. Эти достойные люди все успевают в жизни: и врагов любить, и Царство Небесное зарабатывать, и храму помогать. Свои огороды тоже не обделяют вниманием, в укор лодырям. Прочие же — да вот и они, легки на помине: — А-а! Убивают! Помогите! Люди! — это вопит Петровна, знатная, степенная и уважаемая многими местная обывательница. Затем — звон разбитого стекла, и Петровна захлюпала по лужам вокруг собственного дома. —А-а! Алкаш! А-а! Гад! А-а! Убивают, люди! — взывает бедная старушка. Но люди дремлют. Погода не располагает к тому, чтобы вылезти из-под теплого одеяла и броситься кому-то на помощь. — Бунт на корабле-е-е! Полундра! — вслед за несчастной Петровной, размахивая мокрым валенком, выскочил зять, вспомнивший после второй бутылки, уже под утро, свою флотскую службу. После пьяных ночей с ним частенько случаются приступы армейских воспоминаний. Поначалу сухопутных соседей чуточку настораживали незнакомые выражения пьяного зятя вроде «свистать всех наверх» или «трави помалу», но спустя несколько месяцев с его появления в доме Петровны люди попривыкли к полуночным «морским боям». Иногда только Петровна жаловалась на своего нового родственника соседкам по скамейке, а те в унисон с ней вздыхали, качали головами и, сплевывая семечную шелуху, добавляли: «Ну и молодежь пошла». «Ну и молодежь!» — повторяла Петровна. Затем собеседницы переводили разговор еще на чьих-нибудь родственников, но снова и снова чей-либо рассказ заканчивался мощным хоровым воздыханием: «Ну и молодежь пошла!..» Но молодежь не пошла. Она резво побежала в пьяном угаре за любимой тещей, продолжая пугать ее непонятными корабельными словечками. Дальше все будет развиваться по обычному сценарию. «Морской волк» закроет незадачливую старушку в сарае, попугает ее немного, как всегда, а та будет смиренно сидеть, беззлобно матеря молодежь, покуда обидчик не уснет. Тогда запуганная до смерти морячка выйдет из своего укрытия, из-за комода, и, опасливо озираясь по сторонам, выпустит замерзшую маму из заточения. В сельских храмах, даже в полуразрушенных, особый, отличный от городского уют. Кажется, та же литургия, тот же хор, те же ладан, свечи, но все по- другому, по-домашнему, что ли. В таком домашнем уюте время Божественной службы пролетает быстро. Причастников нет, и скоро скромные сельские певчие заканчивают службу многолетием православному священноначалию. После этого — проповедь. Сегодня день памяти святой блаженной Ксении, и рассказ будет о ней, о ее жизни и подвиге. И меня, и нескольких постоянных прихожан в который раз поражает рассказ о подвиге блаженной Ксении. Конечно, где теперь встретишь такую супружескую любовь, как у нее. Она любила Бога, хотела спастись сама и желала спасения всем окружающим ее. Спасение — смысл жизни. Не успел заслужить своей христианской жизнью спасение — горе тебе, бессмысленно, впустую прошла твоя жизнь. Муж оставил Ксению вдовой, когда той было всего двадцать шесть лет. Но не загубленная молодость беспокоила блаженную, а загробная участь супруга, ведь он умер без покаяния, без причастия и недостаточно, должно быть, потрудился для спасения души. Тут молодая вдова и пришла на помощь покойному мужу, решила исполнить не выполненные им Божии заповеди. Надела его мундир, перестала отзываться на свое имя и просила звать себя именем мужа — Андреем Федоровичем. Немало благих дел сотворила она от его имени: и на строительстве храма работала, и, отказавшись от своего имения, нищенствовала, помогая людям, и много, много другого. А все будто не она, а муж ее делал. Тем и заработала блаженная рай своему любимому мужу, да и себе. Настоящая христианская любовь, великая и спасительная. После проповеди и поучения миряне подходят ко кресту. Как я и думал, людей сегодня немного, человек десять. Среди них постоянный с некоторых пор прихожанин Димитрий. Он недавно появился в нашем селе и тут же стал ходить в храм. Молодой парень в церкви в наши дни — вдохновляет. Его сразу все полюбили. Кроткий, смиренный, трудолюбивый, часто причащался. С ним сразу же подружился Алексей Семенович и стал привлекать его то к благодатной разгрузке церковного кирпича, то к земляным, то к малярным послушаниям. Димитрий с радостью шел на любую благословленную работу и при этом еще успевал трудиться в совхозе, содержать немолодых безработных родителей, живущих в соседнем районе. Он снимал дом в нашем селе, будучи беженцем из свободного Казахстана. Но вскоре родителям подвернулась хорошая работа для Димы, и они позвали его к себе. Когда мы узнали о том, что Димитрий скоро уедет от нас, всем стало тоскливо. За полгода к нему, к его христианской доброте и готовности на молитвенные и трудовые свершения привыкли и я, и Алексей Семенович, и все, кто посещал наш храм. Димитрий поцеловал крест, заказал молебен о благополучном переезде святителю Николаю и блаженной Ксении. Спустя несколько дней он пришел в храм попрощаться со мной и с Семенычем. Семеныч всплакнул. Понятное дело. Несмотря на огромную разницу в возрасте, они были настоящими братьями во Христе, братьями по духу, здоровому, твердому христианскому духу. Заверив, что напишет, как только обживется на новом месте, Димитрий удалился грузить мебель... Прошло больше двух недель. Февраль вновь напомнил о том, что месяц он, в общем-то, зимний. Похолодало, завьюжило. Возвращаясь домой после службы, повстречал озябшую почтальоншу. Похожая на снежную бабу со свекольными щеками, она протянула мне конверт без обратного адреса и пошла дальше со своей сумкой. А я (в который уж раз), проводив взглядом окоченевшую в сарае Петровну, вызволенную дочкой на свободу, и посочувствовав ей, двинулся домой, к теплой печке, размышляя о том, кто бы мог мне написать. Письмо — оно было от Димитрия — поразило своей краткостью, но больше содержанием: «Батюшка, — прочитал я, — пишет вам Димитрий. Простите меня, я вас всех обманывал. Зовут меня Сергей, просто я взял на время имя моего лучшего друга, который погиб. Это длинная история. Я его очень любил. Поминайте за упокой Димитрия. А за здравие меня — Сергея. Здесь у нас тоже есть храм. Теперь я хожу туда со своим именем. Простите. До свидания». На другой день я показал письмо Семенычу, и тот, прочтя, по-стариковски тяжело завздыхал, покачивая головой: «Ну и молодежь пошла! Ну и молодежь».
В миге от ада
Сане перестала нравиться жизнь. Не его собственная, а жизнь вообще. Пока был юн, он размышлял о будущем, все о чем-то мечтал. Но вот молодость просвистела, а ничего хорошего гак и не случилось. Обычное дело — четвертый десяток, и — пустота. Позади ничего, впереди то же самое — бред. Ну работа, ну бабы, ну... вот и весь перечень. Работа давно обрыдла, от баб устал. Со стороны его судьба вполне могла показаться типичной. Мало ли таких, как он? Зайди в метро — все на одно лицо. На всех похожие штаны, все одинаково дремлют. У всех монотонная работа, однообразные хлопоты. Серая толпа. Но стоит вглядеться отдельно в каждого, и вот — что ни гражданин, то участник своей, неповторимой драмы. И в Саниной жизни было не все просто, как могло бы показаться, заметь ты его плетущимся с работы. Что уж у него случилось... В этом я сейчас разбираться не стану. Но только Саня сделался редким циником и начинал помышлять об окончании своего пустого жития. Чем больше он об этом кумекал, тем четче вырисовывалось хоть какое-то грандиозное событие на его слишком гладком пути. Мало-помалу он изучал способы ухода, изучал опыт тех, кто был до него. Так в его серость проник новый интерес. Жить, чтобы качественнее уйти из жизни. Хобби? И такое бывает. Одно обстоятельство его занимало: в загробное бытие он не верил, но когда изучал опыт неудавшихся жмуриков, его удивляли непонятные явления. Так, один мужик, который собирался удавиться, говорил, что ничего сложного в этом нет. Однако, когда он уже смастерил петлю, поставил под нее табурет и со всеми мысленно распрощался, случилось какое-то... «Стою это я, — говорит, — смотрю на свою петельку. Уже руками за нее взялся, уже заглянул туда, а там, за петлей, совсем не знакомая чужая квартира. Гулянка развеселая шумит, гармонь наяривает и свиньи, главное, скачут. Я обалдел, а тут одна свинья подходит ко мне, встает на табурет против меня, берется за петлю и начинает мне помогать башку в нее просовывать. Я сначала — ничего. Потом гармонь смолкла, все свиньи как заржут! А та, что мне помогает, ну просто заходится. И перегарищем от нее! Гляжу, веревка уже на шее. Я назад голову тащить, а все уже, туговато. Глазами хлопаю по сторонам и не пойму, где я. Табурет внизу — мой, а остальное не мое, чужое, страшное. И стен будто нет. Струхнул я основательно. Ладно, соседка вовремя за солью заглянула, а то болтался бы». Саня не поверил. Подумал, брешет мужик. А тут ему еще один рассказал: «Потолок в бараке гнилой был, не к чему, — говорит, — было удавку пришпандорить. Ну а голь-то, она на выдумки горазда. Вот я и привязал ее к дужке кровати. Пьяный был, руки не работали. Кое-как смастерил эту удавочку. Сунул в нее башку, а сам сижу на детском стульчике. Осталось со стульчика свалиться, подергаться — и все, конец страданиям. Что-то вдруг боязно стало. Посидел, прикинул все. Нет, думаю, завтра на работу надо, послезавтра получка. Обожду. Это всегда успеется. Повалял дурачка, и хорош. И только я так подумал, возникли передо мной два огромных мужика. Черные, лохматые, и у одного в лапе лампа паяльная шипит. Он ее подкрутил, пламя загудело, и мне в рожу горелку — тык! Я увернулся и повис. Они как заржут! Благо спьяну я веревку гнилую взял, лопнула. А то бы...» Саня решил, что пьяные глаза могут и не такое увидать. А еще подумал, что веревка — это не дело. Ненадежно совсем. Надо так, чтоб наверняка. Он и не понял, как оказался на крыше. Стоит, смотрит на вечерний город. Красота? Дурь. Народишко внизу что-то все суетится. Приходят с работы, свет включают в квартирах. Сейчас пожрут, спать завалятся. А завтра опять: будильник, автобус, проходная, цех, домой, ужин, спать. Зачем? Нет, хватит с меня. Он встал на край битумной заливки. Внизу, во дворе, мужики «забивают козла». Вот придурки. Все равно скоро все сдохнут. Тоска. Он поглядел вниз. Туда, где скоро должно валяться его тело. «Тело!» — эта мысль впервые покоробила. С девятиэтажной высоты он рассмотрел железную оградку клумбы. Чтоб наверняка. А сам все не решался: «Вот он, я, стою. А там уже не я — тело. Труп». Жутковато. «Если напороться хребтом на оградку, котелок вмиг отскочит». Страшно. Совсем страшно. «Нет, — подумал Саня, — просто так этот шаг мне не сделать. Вот если выпить для храбрости...» Он решил спуститься в гастроном. Развернулся, а позади него уже стоят два огромных черных мужика, лохматые и с красными глазами. У одного в лапе свистит... паяльная лампа! Уже не вырваться. Жить почему-то вдруг так захотелось! Черный повернул на лампе ручку, пламя загудело, и сунул горелку Сане в лицо. Саня отскочил, чтобы не опалиться, и полетел спиной вниз. Лохматые заржали. Они скалились, и Саня видел, как медленномедленно их свиные рожи скрываются за краешком кровли. Он давно прикинул, что полет с крыши будет занимать не больше трех секунд, но, видимо, просчитался. Время потянулось... Медленно, как в заторможенном кино, проплывали этажи. В окнах Саня успевал рассмотреть жильцов. Люди возвращались с работы, садились ужинать. Обнимали детей, смотрели футбол, выпивали. А у Сани при жизни не было детей и никогда уже не будет! «При жизни! — Саня остолбенел! — Но ведь я еще жив?..» ...А жизнь уже в прошлом. В квартиру на шестом этаже вошел мужчина. Саня знает его. Это токарь, что работает с ним в одном цехе. Мужчина протянул дочурке фруктовое мороженое, та принялась его лизать, а мужчина любовался ребенком и улыбался. Странно, Саня всегда считал его жизнь пустой и глупой, а его самого — женатиком и затюканным недоумком. Теперь Саня завидовал ему. Захотелось прийти с работы, захотелось дочурку, захотелось мороженого. Сердце заныло, и в мозгу обозначилось: «Никогда». Саня сквозь слезы посмотрел вверх. Небо в своей глубине удивительно сияло. Вдалеке, наверное за облаками, Саня узрел Церковь. Она окружена Ангелами, и издалека до него доносится легкий аромат чего-то. «Ладана? Разве ладан пахнет жизнью?» Церковь удаляется, и Саня смекает, что внутри ему уже никогда не побывать. На пятом этаже у окна сидит дед. На его носу болтаются очки. Дед пялит подслеповатые глаза в книгу. Саня успел даже разобрать тисненные золотом буквы на переплете: «Дюма». «Блин, я даже “Трех мушкетеров” не прочел! Теперь это тоже никогда!» Поначалу Саню удивила неестественная скорость падения, но вскоре он припомнил, как в одной книжке про войну говорилось о похожем явлении. Солдат видел врага, видел, как тот выстрелил. Видел трассирующую пулю, посланную ему, и все понимал. Понимал, что увернуться уже невозможно, понимал, что это конец. Это — геройская смерть. А у Сани даже смерть будет не геройской, а так, позорной что ли? Смерть... а было бы иначе — Дюма, дочурка, пиво, футбол, мороженое, ужин, постель... к чему теперь считать? Поздно. Осталось жить всего пару этажей. Саня оглянулся посмотреть на место падения. Увидел оградку. Возле нее потирают лапы те двое. Те самые, что были на крыше! «Что сейчас будет!» Саня впервые удивился этой мысли: «Будет». Ему казалось, что ничего уже не будет, никогда. «Конечно, будет. Не за телом же они сюда явились. Зачем им плющеный труп?» Выходит, что все только начинается! Выходит, тело шлепнется, мужики бросят доминошного «козла», бабки у подъезда заголосят, менты набегут. А его — Саню — тем временем эти двое уже уволокут. Утянут туда, откуда сами явились. Никто не узнает. Никто не увидит. Чем ближе их рыла, тем Сане страшнее. Чем ближе их когти, тем сильнее Саня жмурится, чтобы ничего не видеть. Чего не хватало? Почему не жилось? «Жигулевское», фруктовое, Дюма, церковь... Когти... Тело! Тело шлепнулось. Саня вздрогнул и проснулся.
Всякое дыхание
Кадило с бубенцами. Время каждения. Пасхальный крестный ход. Разве может торжественная служба обойтись без звонких кадильных бубенцов? «Христос Воскресе!» — восклицает священник радостно. «Воистину Воскресе!» — вторит народ. И кадило, кажется, радуется, ликует и пытается перекричать и народ, и хор, и священника на своем звонком языке бубенцов. Не умея говорить и петь славу Творцу, оно выражает кадильную радость по-своему, стараясь перезвенеть мощный диаконский альт. В праздничные дни бывает именно так, но праздники позади. Сегодня Прощеное воскресенье, а завтра первый день Великого поста. Переоблачаем всю церковную утварь в черные постовые одеяния. В пост — не до веселья. Видя потемневший храм и алтарь, сравниваешь их со своей собственной душой. Светлая и радостная, какая-то пасхальная в детстве, с возрастом становится все чернее и чернее. Чтобы и кадило не отличалось от постовой обстановки, прошу своего единственного помощника, пономаря, чтеца и звонаря в одном лице, снять с него бубенцы до Пасхи. Алексей Семенович строг к себе, паче — к другим, с пониманием относится к данному благословению и с мыслью о том, что, дескать, нечего им ликовать — плакать надо о грехах, складывает бубенцы в треснувшую старую лампаду и ставит ее на серую грустную хозяйственную полку в алтаре. Всякий постник знает, как тяжело бывает начинать поститься. На улице непонятная погода. Уже не зима, но еще и не весна. Холодно, промозгло, а в иной год и морозно бывает. В душе примерно то же самое: должно уже посетить чувство скорби о грехах, но его еще нет. Должно отступить все мирское и отвлекающее, чем обычно напичкан последний день масленицы, но все это упорно продолжает гнездиться где-то на задворках сумбурных мыслей. — Баммм, — глухо ударил большой колокол. Начался первый богослужебный день Великого поста. Наше большое село не отличается крепкой духовностью своих жителей. Это тоже повод для сокрушения в дни особого покаяния. Если подняться на колокольню перед тем, как в храме начнутся молитвословия, то все село, вся его основная часть, будет видна как на ладони. Вот церковная паперть — она пуста. Вот узенькая тропинка, ведущая ко храму, — по ней по своим собачьим делам потрусила куда-то тощая дворняжка. Вот автобусная остановка — здесь несколько более оживленно: кто-то ждет автобуса, кто-то спит «после вчерашнего» прямо на мокрой земле, а какой-то парень пытается извлечь музыкальные звуки из старой гитары, которая, видимо, еще вчера, во время масленично-сивушного разгула, потеряла последнюю ржавую струну. Напротив этого оживления, через дорогу, — гастроном. Спешащие туда в основном отличаются от выходящих оттуда. На лицах выходящих радостные улыбки, их руки уже не трясутся, а авоськи весело позвякивают, вызывая жадную зависть у страдающих прохожих. Вот и бабы. Настоящие, классические бабы. Маленькой кучкой неохотно бредут на ферму, где уже давно не платят. Из их уст то и дело доносятся «проявления любви» к своим и еще к чьим-то родителям. Особые трепетные чувства вызывает мать, но не своя, а все больше соседская. Редкие машины, проезжая мимо них, заглушают их неласковую речь, а машины, в свою очередь, глушит печальный постовой колокол. — Баммм, — Алексей Семенович не пожалел своих сил, и последний удар получился особенным. Спускаемся вниз. В храме уже ждут пятеро прихожан, стрелки часов показывают восемь. Начинаем постовую утреню. Лишенное праздничных бубенцов, еле слышно, печально бряцает цепью кадило в пустом храме. Тщетно призывают селян к покаянию слова Священного Писания. Слушая древнюю Псалтирь, вспоминаю утренний пейзаж — вид с колокольни. Вся картина описана святым автором давным-давно. Вот он, «золотой телец», — в сумке выходящего из гастронома только звенит и булькает. Вот они, и «нечестивые израильтяне» — идолопоклонники, навлекшие на себя гнев Божий, правда, сами этого они не сознают, ведь один лежит на земле не в состоянии что-либо понимать, другому некогда — работа, дом, огород — его «телец». О нас эти священные слова, о нашей невеселой, пропитой, прокуренной и разворованной жизни. О нас. «Всякое дыхание да хвалит Господа!» — доносится с клироса. Тут же посещает мысль, что, к сожалению, не всякое. Оглядываюсь на пятерых прихожан. Слава Богу, их дыхание сегодня не отравлено ни перегаром, ни махоркой. Их дыхание, к счастью, хвалит своего Творца. Оно — дыхание пятерых, да еще клиросных, да еще пономаря, да еще священника, да еще... нет. Хотел вспомнить кадило, его хвалу и мягкое фимиамное дыхание, но оно ведь не живое... И в этот момент от мыслей к реальности возвращает резкий звон бубенцов. «Хвалите Господа с небес!» — продолжает чтец. «Кто, интересно, взял кадило?» — посетила первая мысль. Никто, вот оно висит совершенно спокойно, к тому же и без бубенчиков. А откуда же звон, такой резкий? «Бубенцы!» — догадался я. И действительно, но не сами по себе. Мышка, маленькая мышка, не боясь никого, сидя на лампаде весело перебирает лапками по бубенчикам. Поистине, всякое дыхание призвано хвалить Бога. Даже маленькой мышке, счастливой и не по-постно- му веселой серой мышке, понятно, что хвалить Бога своим мышиным дыханием и оставленными без присмотра бубенцами — великое и вечное счастье!
Резолюция
Свекольный самогон, естественно, слаще паточного. Не нужно быть химиком, чтобы это знать. А Иван Иваныч, тот, что преподает химию, всегда именно такой и любил. Случалось, его уроки становились вдруг такими занимательными, что даже жестокие лодыри с удовольствием внимали учителю, от которого попахивало нескромным свекольным. Так вот. У химика случился самогон. А еще, весьма кстати, в школьной столовке подоспела капуст- ка. Кислая, шипучая! Самая та. С большой перемены Иван Иваныч так и не вернулся. Устал, положил голову прямо на общепитовский стол, да там и остался. Раньше бы — ничего, был помоложе и не такие горы сворачивал. Только теперь возраст подошел. До пенсии год, что ли, и остался всего-то. Не рассчитал силы. Восьмой класс, который лишился контрольной, все понял и обрадовался. Можно было бы и на ушах постоять, только в этом случае к ним обязательно прибежит злобная завучиха и будет алгебра. Поэтому в одном углу класса тихонечко раздают в дурака, в другом — клуб по каким-то еще интересам. Ну, как обычно. Главное — тишина в кабинете. Ту завучиху за глаза величали Горгоной. Кажется, оттого, что взгляд у нее недобрый. Конечно, если она станет сверлить своими глазками, в камень ты не обратишься, но сердце все-таки сожмется. И холодок побежит под волосами такой, будто череп стынет. И, главное, зрение у нее, хотя она и в очках, ну просто не двухсот-, а трехсотпроцентное! Видит все. И везде. Как ухитряется? Одна старенькая учительница пожалела тогда Иван Иваныча. Собрала повариху, физрука и уборщицу, принесла свой потертый плед и организовала: погрузили вчетвером химика на это покрывальце и снесли подальше от людских глаз, уложили в раздевалке на топчан и прикрыли: «Поспи, сердешный». Тогда в октябре сильно захолодало. Котельную еще не пустили. В раздевалке уборщица кочегарила старую «голландку». Теплынь! И сны такие чудные на мягком топчане под теплым пледом, красота! Как про эту красоту пронюхала Горгона, никто не знает и посейчас. Только ей зачихалось. Она отчего-то всегда чихала, если кому-нибудь рядом становилось вдруг хорошо. А чтобы унять «апчхи», нужно знать средство... На другой день рано-рано на планерке Горгона похвасталась директору и всем, что скоро, мол, злоупотреблениям химика придет конец. Она разложила на директорском столе копию рапорта, что еще с вечера отправила в райотдел. Директор разглядел среди прочего: «Докладывает вам всеми уважаемая... какой пример для молодежи... никакого уважения... алкаша носят, как министра... позорит... все его презирают за пьянство... спит, и его... порицают. Просьба принять меры». И подпись ее — Горгоны. Похоже, что чих у нее прошел, она сияла и цвела. Директор прочел и сразу сник. Жалко стало химика, старого приятеля: «Вот тебе на! Всего-то год до пенсии не доработал». Жалко и себя: «Потреплют нервы теперь, проверки пойдут». Жалко и Горгону: «Что же она такая глупая, да еще и злая»! И все, ракета в полете, теперь только жди, где долбанет. Потянулись грустные дни. Иван Иваныч завязал со свекольным, трудился и ждал. «Ладно бы анонимка, а то вишь как, с подписью... коллектив, мол, порицает». Директор тоже напрягся... Пролетели осенние каникулы, снежок нападал. Белым-бело так стало по селу! Ночью — красота — небо звездное-звездное и собаки брешут. Сперва одна, где-то за фермой, потом другая — ближе. Стоишь на крыльце задрав голову, а они уже вокруг тебя голосят. Этак вот: «Гав-гав-гав! Ав-ав-ааав!» И подвывают так занятно. Подмораживает. Утром воздух синий-синий. Такой хрупкий, что даже вдыхать его жалко. Снег под валенками — скрип-скрип. Оно уже и Новый год не за горами. Только невесело химику — ответа все нет. Чего-то дождет? А может, и ждать уже не стоит? Как-то синим утром директор созвал планерку. Житейские вопросы, то-сё. Среди всяких нужных бумаг на его столе покоился официальный конверт. Синий штамп вместо обратного адреса, размытый весь. Это в нем, кажется, должна быть резолюция от начальства. Страшно было его вскрывать. Уволить, ну или «пропесочить»? Теперь с братом-педагогом без церемоний. Уволить, должно, и баста! Директор мрачно разорвал конверт. Узнал знакомый Горгонин рапорт. Тот самый: «Докладывает вам всеми уважаемая...» Рядом с «шапкой» размашистым почерком наискосок значилось... Директор разобрал, прослезился, заулыбался. Радостный отправился на урок. Выходя из кабинета оглянулся и бросил собранию: «Вот. А некоторые еще говорят, что начальство у нас сплошь дураки». Про письмо как будто бы забыл. Оно так и осталось валяться на его столе. Горгона схватила свой рапорт, поправила очочки, присмотрелась к резолюции, задрала вверх указательный палец и, все еще счастливая, зачитала резолюцию вслух: «Товарищ директор! Объясните этой вашей уважаемой, что если пьяного человека коллеги носят, как министра, то уважают как раз именно его. Рекомендуем не тянуть с проработкой».
Лисенок
Дядя моего дружбана служил лесником и как-то преподнес своему племяннику рыжий подарок. Лисенка поселили на балконе в собачьей будке. Раз после школы приятель предложил: — Пойдем лисенка смотреть? Нас — пятиклашек — не перегружали уроками, и я согласился: — Пойдем! Запуганное создание со страхом таращило на нас свои дикие глазки. Его шею стягивала петля из засаленной вожжи. Свободный конец лисьей удавки был привязан к балконным перилам. Мы вдвоем глядели в будку. Я присел, потянулся его погладить, но друг меня вовремя удержал: — Ты чё! Он же дикий! Палец враз оттяпает! Я попятился, а хозяин в подтверждение своих слов стал тыкать в будку палкой и тявкать по-лисьи: — Кех-кех! Кех-кех! Рыженький оскалился, выставил из будки зубастую морду и сам угрожающе затявкал: Лисенок — Кех-кех! — Видал? Дикий зверюга! Он, паразит, весь балкон загадил, отец заставляет с ним гулять, а эта тварь не хочет, боится. Щас сам увидишь. На улице маслился мартовский снег... Мы оделись, и друг потянул лиса за вожжу. Тот хрипел, упирался. Когда же приятель выдрал его из убежища и потащил через комнату, лисенок сразу юркнул под кровать, затявкал оттуда. Из-под кровати его вытянули, и он нырнул под шкаф. Потом он испугался лифта — забился под лестницу. А когда мы втроем все же очутились на улице, лис схоронился под скамейку у подъезда, запутал свой поводок вокруг скамейки- ных ножек и оскалился. На тявканье сбежалась дворовая пацанва. Друг сразу всех предупредил, что дикий «зверюга» только и ждет какого-нибудь ротозея, руку отгрызть. Смотреть на запуганное животное вскоре надоело, и ребятишки разбежались. Мы присели на лавочку, под которой скалился лис, заскучали. Прохожие с интересом разглядывали лесное чудо, а мой друг по-хозяйски тыкал в звериную морду палкой, изображал дрессировщика. В одном подъезде с моим укротителем соседствовала красивая студентка Машка. Она обычно нам улыбалась и всегда шутила. Теперь она возвращалась из института и остановилась возле «дрессировщика»: — Что это там у тебя? — она присела. — Ух ты, лисичка! Приятель растерялся при ней и не успел предупредить Машку, что зверя стоит опасаться. Она тем временем распутала удавку, приняла лисенка на руки и уселась на нашу скамью. Зверенок притих у нее на руках, успокоился, а она сунула лиса за пазуху и запахнула так, что торчала только усталая черно-рыжая мордочка. Машка гладила зверюгу и рассказывала ему, какой он миленький. Мы с другом поплыли, все смотрели на это лисье преображение. Потом девушка и нам позволила погладить зверушку. Шерсть такая упругая...
* * *
Я бы и не вспомнил того лисенка, если бы однажды, спустя годы, случайно не встретил его укротителя. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|