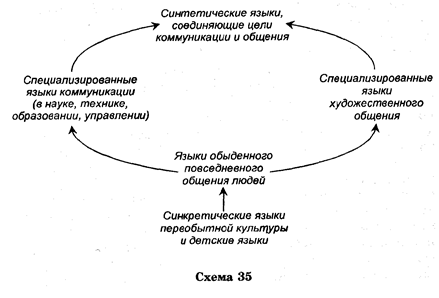|
|
КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА^так, и духовной, и художественной культуре необходимы специальные средства объективации, обобществления, а значит, материализации производимой идеальной предметности — знаний, ценностей, проектов, образов. Такими средствами становятся знаковые системы — языки культуры. Правда, в известных обстоятельствах, как было показано, и продукты материальной Культуры могут приобретать знаково-коммуникативную функцию, но для них это не необходимо, тогда как плоды духовного творчества создаются именно для того, чтобы быть усвоенными другими людьми и потому имманентно семиотичными. Как бы ни было велико значение словесного языка, он не является единственной знаковой системой, используемой для этой цели духовным производством и духовным общением людей, равно как и художественным творчеством. По сути своей культура полиглотна, ибо при всей своей информационной емкости и коммуникативной мощности словесный язык не может транслировать всю полноту информации, которую людям необходимо передавать друг другу для полноценной организации их совместной жизни: достаточно напомнить хорошо известную каждому человеку из его обыденного, повседневного опыта необходимость дополнять словесное высказывание мимикой и жестом или же невозможность пересказать своими словами впечатление, получаемое от слушания симфонии или созерцания картины. Это значит, что широко распространенное представление о "всемогуществе слова" и соответственно "превосходстве" словесного языка над всеми другими, поверхностно и ошибочно; в известном отношении язык слов, действительно, обладает бесспорными преимуществами перед языком жеста, языком интонаций, языком изображений, но в других отношениях он слабее этих языков и не может их заменить во многих жизненных ситуациях — от объяснения в любви и преподавания геометрии до вытачивания детали по чертежу и общения с произведениями разных видов искусства. Это значит, что каждый язык культуры идиоматичен, непереводим адекватно ни на один другой язык и потому является наилучшим средством связи людей в той конкретной ситуации, для обслуживания которой он "изобретен" и усовершенствован культурой. Вот почему нередкие опыты перекодирования культурных текстов остаются приблизительными и неточными, а в художественной культуре — лишь "вариациями на тему" (например, в книжной иллюстрации, в инсценировках романов, в экранизации пьес, в симфонических "Картинках с выставки"). Множество языков нужно культуре именно потому, что ее информационное содержание многосторонне богато и. каждый специфический информационный процесс нуждается в адекватных средствах воплощения. Задачи культурологического анализа полиглотности культуры состоят поэтому в том, чтобы установить, какие именно языки необходимы и достаточны ей для успешного функционирования и развития и чем объясняется именно такой "набор" знаковых систем в семиозисе культуры. 1 Генетический подход к решению данной проблемы заставляет начать с выяснения того, какие способы связи человек мог унаследовать от своих животных предков. Судя по известным нам коммуникативным системам обезьян, которые, видимо, сохранили структуру коммуникаций наших с ними общих предков, передача информации осуществлялась в стаде двумя способами — жестомимическим и звукоинтонационным. В пределах последнего было выработано несколько устойчивых акустических комплексов: исследователи насчитывают их до 17-ти, которые можно рассматривать как зародыш развившейся у человека звуковой речи. Нетрудно понять, почему у высших животных складываются именно эти и только эти средства связи и почему они не овладевают словом: для решения такой задачи у них нет потребности — высокого уровня развития абстрактного мышления, а оно находится в зачаточном состоянии потому, что примитивная и стабильная, лишь в небольших пределах варьирующаяся практика позволяет управлять ею с помощью врожденных у особи психических механизмов — инстинктов; что же касается двухканальности используемых гоминидами коммуникаций, то это объясняется зрительным и слуховым способами восприятия данных сигналов, исчерпывающих возможности высших животных посылать сообщения на более или менее далекое расстояние (в контактной связи жест ощущается тактильно — при поглаживании или ударе, ласковых прикосновениях или щипках). Оба эти канала и были унаследованы людьми и существенно ими развиты, породив их древнейший язык — кинетический и одновременно невербально-звуковой; вместе с тем, на базе устойчивых по смыслу и акустической форме знаковых комплексов стал формироваться словесный язык — одно из главных завоеваний культуры, кардинально отличившее человека от всех животных. Судьба этих языков оказалась различной: последний стал в культуре основным средством общения и коммуникации людей, а два первых сохранились в обыденном общении в качестве сопутствующих речи выразительно-коммуникативных средств и только в художественной культуре оба завоевали равноправное со словесным языком положение, став самостоятельными языками танца и музыки и войдя в семиотический ансамбль сложных языков сценического искусства — в творчестве драматического актера и актера-певца. Эти различия судеб семиотических средств культуры объясняются тем, что кинетический и звукоинтонационный язык обладают широкими эмоционально-выразительными возможностями, но узким спектром интеллектуальной выразительности, слово же оказалось идеальным средством выражения мыслей человека: каждое слово является ведь обозначением понятия — обобщенного отражения тех или иных свойств множества предметов, явлений, процессов, т. е. самой сущности явлений, вскрываемой познающим мир мышлением. Отсюда становится понятной одна из особенностей мифологического сознания, причиняющая столько неудобств исследователям мифа, — его, так сказать, "частичная вербали-зованность", поскольку мифологические представления воплощались единством всех доступных первобытному человеку и еще не отдифференцировавшихся друг от друга знаковых средств, вербальных и невербальных. Единство это объяснялось бесструктурной целостностью первобытного сознания. Дело не в том, что оно было эмоциональным, "пралогическим", как назвал его Л. Леви-Брюль, хотя К. Леви-Стросс, несомненно, преувеличил его рациональную основу; дело в том, что оно было синкретически аморфно, что разные его механизмы — эмоциональный и интеллектуальный, память и воображение, осмысление внешнего мира и самосознание, рефлексия и воля — не были еще отчленены друг от друга (как и у ребенка). Неудивительно, что цивилизованным людям, научившимся исторически — и обучающимся этому всякий раз в процессе индивидуального развития — расчленять свои мысли и чувства, воспоминания и мечты, ощущения и абстракции, жизненные впечатления и сноЬидения, крайне трудно адекватно воспринимать плоды деятельности такого сознания (эти трудности распространяются и на восприятие духовной жизни наших собственных детей до тех пор, пока и жизненный опыт, и школьная педагогика не произведут "хирургическую операцию" по расчленению целостности психической жизни ребенка). Поскольку миф выражал синкретическое сознание первобытного человека, ему нужен был комплекс нерасчлененных знаковых средств для закрепления и передачи своих образов. Живое, интонируемое и напеваемое слово, жест в его танцевально-интонируемом виде, а затем и ряжение, преображавшее человека в животное, и использование скульптурной маски, и статуэтки, и рисунка или гравюры на камне, и ритуальной орнаментальной раскраски собственного тела — все это оказывалось синкретическим, языком мифа, отвечающим его психологическому синкретизму. Лишь в ходе длительного распада мифологического сознания происходило и обособление различных языков культуры, и выдвижение на ее авансцену вновь изобретенных знаковых систем — словесной и пластической. Исторический процесс такой перестройки семиотического строения культуры был связан с развитием интеллектуальной деятельности человека, с непрерывным повышением роли абстрактного мышления и опирающегося на него научного познания. Историческое развитие человека, его деятельности, культуры обнаружило недостаточность жестомимических и звукоинтонационных средств для выражения и сообщения другим "расширявшейся вселенной" человеческой мысли, сделав необходимым изобретение такого языка, который был бы способен эффективно решать эту задачу. Им и стал словесный язык, первоначально устный, сложившийся на базе звукоинтонационных средств выражения и в живой речи от них неотрывный, а затем — второе великое семиотическое изобретение культуры! — фиксировавшийся во внешней для него, письменной форме. Она отчуждала высказывание от самого процесса говорения, запечатлевала его в вещном, пространственном, зримом облике словесного текста, благодаря чему он становился независимым от своего создателя и мог сохраняться в веках, делая несомое им интеллектуальное содержание достоянием бесконечного числа людей. История философии и математики в древних обществах весьма рельефно показывает, как философское осмысление мира и места в нем человека, вырастая из мифологического сознания первобытных людей, потребовало освободить слово от его неразрывной связи с жестово-танцевальными и музыкально-интонационными средствами, свойственной мифу, — философия стала сферой Логоса, диалогического Слова (вспомним хотя бы роль Демокрита и Сократа в истории философской мысли), а математическое исчисление, вырастая из того же корня, должно было использовать и словесное обозначение чисел, и геометрические изображения-конструкции для моделирования объективных пространственных отношений бытия. Вместе с тем эмоциональная жизнь и жизнь воображения не отмирали, не оттеснялись в автономизировавшуюся сферу культуры — сферу художественной деятельности, которая долгое время сохраняла связь с мифологическим сознанием в его изменявшихся формах (формах мировых религий), но все решительнее и шире секуляризировались в повседневной жизни, в быту, где обыденное сознание удерживало живую связь мыслей человека с его переживаниями и образными представлениями. Эта сохранявшаяся — и сохраняющаяся поныне — синкретическая целостность духовной жизни требовала использования всех языковых средств — от жестоми-мических до абстрактно-геометрических, в их разнообразных сцеплениях, синтезах и в самостоятельном использовании каждого (от "чистого" танца до "чистой" архитектуры). Если в живой, устной речи слово и тембро-ритмо-интона-ция неотделимы друг от друга, отчего она органически соединяет интеллектуальную и эмоциональную выразительность, хотя в большинстве коммуникативных ситуаций при несомненном первенстве, главенстве первой (лингвисты говорят об эмоциональном "ореоле" слова, но понятийном его содержании), то письменность резко отделила интеллектуально-мыслительное значение текста от эмоциональной его экспрессивности, придавая слову статус термина и делая язык оптимальным средством научного, отвлеченно-теоретического и адекватно точного познания человеком мира. Вместе с тем человеческий гений сумел извлекать из письменного слова таившиеся в различных способах соединения слов, с одной стороны, возможности выражения человеческих чувств, эмоций, переживаний, настроений, а с другой — возможности изображения конкретного бытия, проявления общего в единичном, внутреннего во внешнем, сущности в кажимости, мыслимого в чувственно воспринимаемом облике. Это позволило сделать письменный язык не только основным средством научно-теоретического познания и идеолого-теоретических рассуждений, но и инструментом художественно-образного освоения мира. Изобретение письменности имело этапный характер для истории культуры, ибо живое устное слово не могло преодолеть узкие пространственные и временные пределы звукового и кинетического способов передачи информации, — ведь они могут функционировать лишь в границах непосредственного, визуального и орального контакта человека с человеком. Для внегенетической передачи накапливаемого опыта от поколения к поколению и от коллектива к индивиду культуре нужно было разорвать эти границы и изобрести такие способы материального закрепления-кодирования-сохранения-трансляции духовной информации, которые позволяли бы ей достигать адресата не только "здесь" и "сейчас", но и е любом месте и в любое время; для этого нужно было оторвать высказывание от говорящего и придать ему самостоятельное предметное бытие, благодаря которому послания могли бы переживать своих отправителей и оставаться навсегда во вненаследственной памяти человечества. Изобретение и развитие письменности сказалось и на судьбе звукоинтонационного языка, открыв возможности нотной записи музыкальных текстов; тем самым существенно расширились позиции музыки в художественной культуре, обеспечив недоступную фольклору сохранность аутентичного музыкального текста в самых сложных его структурах и разделив музыкальное творчество на два различных его вида — сочинение и исполнение (подобно тому, как это произошло в искусстве слова и в драматическом искусстве). Расширение семиотического спектра культуры за счет выхода языков за пределы непосредственно доступного человеку благодаря его биологическим возможностям — пластической жестикуляции и звуковому изъявлению — осуществлялось, однако, не только благодаря письменной фиксации высказывания, но и другим путем — благодаря использованию внешних для человека природных средств в тех же коммуникативных целях. Происходило это двояким образом: во-первых, наряду с поющим голосом и звучанием телодвижений (шлепков, ударов в ладони, перестуку ног) сигнализационные и музыкальные функции были открыты в искусственных способах звукоизвлечения — вдувании воздуха в рог, тростниковую дудку, меха, ударах по деревянной доске, натянутой шкуре, полому сосуду, в вибрационных манипуляциях со струнами; во-вторых, выразительный жест, фиксированный на плоскости скалы, на земле, на поверхности костяного бивня или на самом теле человека, рождал рисунок или пластическую объемную форму, приобретавшие определенное значение. Тем самым "отчуждение жеста", который не поддается системе записи, изобретенной для слова и звука, родило два языка — изобразительно-фигуративный и орнаментально-архитектонический. Первоначально они не различались сколько-нибудь отчетливо — в первобытной культуре треугольник мог быть и изображением женского пола, и абстрактной фигурой, а каменный столб — и строительной опорой, и фаллическим знаком, а орнамент — абстрактно-ритмизованным сочетанием изобразительных элементов, звериных и растительных; ту же нерасчлененно-двойственную природу имели ожерелья из зубов и когтей зверя, раковин или перьев. Однако постепенно эти два языка культуры —изобразительный и орнаментальный — разошлись, каждый стал самостоятельным, ибо культуре были необходимы обе семиотические структуры, как и различные их сочетания, располагающиеся широким спектром переходных форм. Такое раздвоение языковых возможностей внечеловеческих, природных средств объясняется тем, что в материальном мире, окружающем человека, он различает сущностные свойства и конкретные, являющиеся ему в непосредственном созерцании, открываемые познающей мир мыслью и ощущаемые в живом контакте с эмпирически данным ему "наличным бытием". Пластические языки опираются на эти различия и используются культурой как в повседневном общении людей, в материальном производстве, в деловых коммуникациях, так и в художественной жизни, становясь языками искусства. Так, одежда священнослужителей и военнослужащих, обрядовая утварь и средства дорожной сигнализации отчетливо выявляют семиотические возможности абстрактных геометрических и стереометрических формо- и цветосочетаний, благодаря чему сразу узнаются сан служителей церкви, ранг офицера, род войск, в которых служит солдат, социальное положение носителя короны, тиары, бескозырки, место стоянки такси, право проезда или запрета и т. д. и т. п. При этом система значений может быть жестко регламентированной и свободной, индивидуально-вариативной — скажем, в военной одежде и в штатской, в знаках дорожной сигнализации и в вывесках магазинов. Вместе с тем изобразительные и абстрактные средства могут применяться альтернативно, могут комбинироваться, могут перекодироваться — скажем, цвета светофора и изображения фигур стоящего и движущегося человека, цвет петлиц и изобразительные знаки летчика и артиллериста. Существенно отличие пластических языков от письменных, словесных и музыкальных: последние являются вторичными, перекодирующими живое слово и живое музыкальное звучание, а пластические языки связаны с кинетическим только генетически, обретя полную самостоятельность от языка жестов; если запись словесного текста и нотная запись сохраняют динамизм, текучесть, временную структуру живой речи и живой музыки, то закрепление жеста в природных материалах — камне, глине, мраморе, металле, листе бумаги, раскрашенной ткани — переводит процессуальное бытие жеста в статическую форму вещи, тем самым радикально меняя содержательно-информационные возможности данного пластического текста; вместе с тем фиксация жеста в материале позволяет воссоздать облик предмета (скажем, в чертеже), связь элементов в форме (например, в орнаменте, в строении здания, в конфигурации бытовой вещи) с такой степенью конкретности, обстоятельности, детальности, зримости и эмоциональной действенности, какая недоступна эфемерному жесту или, тем более, ограниченной выражением психических состояний мимике. Формирование обогащенной таким образом системы языковых средств культуры привело к разделению "сфер влияния" между разными типами языков: в повседневном, обыденном общении людей главным его средством оставалась живая звуковая речь, хотя и паралингвистические средства, и письменно-словесные (скажем, в переписке или в прессе), и изобразительные, и абстрактно-геометрические (например, в одежде, украшениях, рекламе) широко здесь использовались, но не могли занять главенствующее положение; напротив, в научной и практической деятельности людей главными языками стали письменно-словесный и конкретно-изобразительный (например, в иллюстрировании и в черчении), а также абстрактно-геометрический (и в математике, и во множестве наук, использующих схемы, диаграммы, таблицы); в идеологической жизни общества — религиозной, политической, юридической — использовались в самых различных комбинациях и "весовых" соотношениях языки обыденного общения, семиотические механизмы научно-теоретической и художественной деятельности, так как в этой сфере культуры необходимыми оказываются любые средства, способные распространять те или иные системы взглядов, идеи и идеалы; художественной же деятельности нужно было множество языков, обусловливавших самостоятельное бытие конкретных видов искусства, ибо они стали необходимыми художественной культуре для полноты осуществления образного освоения мира и духовного общения человека с человеком, народа с другими народами и каждого поколения с идущей ему на смену чередой новых поколений; потому все языки искусства стали в принципе равноценными, в конкретном же историческом движении художественной культуры место каждого из них менялось благодаря неравномерному развитию видов искусства, обусловленному изменением потребности культуры в несомой каждым из них информации. Из первоначального синкретического художественного языка "мусического" искусства, вбиравшего в себя и языковые средства искусства пластического, стали выкристаллизовываться различные самостоятельные языки искусств, сохранявшие свои связи лишь благодаря синестетическим ассоциациям. И все же имманентная искусству целостность духовного освоения мира постепенно вела его к образованию новых синтетических художественных структур — на сцене, в кинематографе и на телевидении, в словесно-музыкальных и словесно-графических (книжных) комплексах, — в которых разные художественные языки образовывали сложные, многогранные семиотические структуры, необходимые для адекватного выражения этого неизвестного другим сферам культуры разносторонне целостного духовного содержания. Так выясняется, что полисемия культуры складывается благодаря реализации всех возможностей, предоставляемых коммуникации и общению людей, с одной стороны, их собственными, биологическими данными, а с другой — возможностью использования внешних, природных средств в тех же семиотических целях. Общая морфологическая структура семиозиса культуры выглядит, следовательно, таким образом (см. схему 33):
Эта схема позволяет увидеть, что семиозис культуры действительно является системой знаковых систем, охватывающей все возможности, которыми располагает человек для организации духовной связи с себе подобными. 2. Крайне важный, но недостаточно разработанный теоретически аспект семиотики культуры — типология знаковых систем. Широкое признание получила классификация знаков, предложенная Ч. Пирсом; известны сложная система, разработанная итальянским семиотиком У. Эко, и деление знаковых систем на первичные и вторичные, обоснованное Ю. Лотманом; интересен опыт систематизации знаковых систем, сделанной Ю. Степановым, в которой они расположены по степени нарастания их семиотических свойств. Однако все эти построения упускают из вида едва ли не основополагающее с культурологической точки зрения функциональное различие между двумя типами языков. Ибо одно дело — потребность передачи того или иного вида информации, которая должна быть распространена в обществе именно в том виде, в каком она добыта людьми, — знание фактов (документальная информация) и знание законов (научная информация), знание оптимальных действий (технологическая информация) и способов их осуществления (техническая информация), и совсем другое — потребность выработки новой информации совместными усилиями творящих субъектов, которые передают друг другу не готовые сообщения, а сообщения, рассчитанные на их интерпретацию, на творческое осмысление, предполагающие доработку, претворение, обогащение, трансформацию партнером по общему действию; таковы дружеская беседа, имеющая целью обретение общих взглядов и позиций, таковы взаимоотношения в семье и творческом коллективе, таково общение художника и зрителя, читателя, слушателя. Первая потребность рождает знаковые системы монологического типа, вторая — диалогические языки. Монологический текст, в каком бы знаковом материале он ни был построен — словесном, жестовом, изобразительном и т. д. — должен информировать получателя сообщения о чем-то, от него не зависящем, или указать на требуемое от него действие; текст этот, следовательно, либо информативен ("Солнце взошло"; "Сумма углов треугольника равна..."), либо директивен ("Подай мне эту книгу"; "Налево равняйсь!"). В обоих случаях возможна обратная ситуация — вопросительная, не меняющая монологический характер текста, но предполагающая ответный монолог того, к кому обращаются ("Что ты делал вчера вечером?" или "Что я сейчас должен делать?"; "Как мне пройти к памятнику Пушкина?"). Подобным образом строится учебник, использующий словесные повествования, вопросы и ответы, геометрически вычерченные и иллюстративно-нарисованные, равно как жестовое обучение гимнастике, фигурам танца, мимике актера ("Показываю, повторяйте движение"). Диалогический текст имеет принципиально иную структуру — он не информирует, не повелевает, не вопрошает, а призывает к со-участию, со-переживанию, со-творчеству — всегда к "со"-вместной духовной деятельности. Как видим, в этих двух ситуациях необходимы разные модификации одного и того же языка — словесного, изобразительного и т. д. и разное соотношение оптимальных для данной ситуации языков. В одном случае цель информационной деятельности предполагает такой характер знаковой системы, которой обеспечивал бы однозначность каждого знака и жесткие правила их соединения, — к этому и стремятся языки коммуникации, о чем свидетельствует, с одной стороны, возможность точного определения значений каждого знака в соответствующих словарях или перечнях "условных обозначений", по которым декодируется их использование в географической карте, например, в социологической диаграмме и т. п. — ас другой, строгие правила грамматики, действующие в словесном языке и в других языках того же коммуникативного типа. Во втором случае обращение текста к интерпретирующему его преломлению и обогащению субъективным пониманием того, к кому он обращен, требует от самого текста многозначности, "открытости" для интерпретирующего его осмысления; знак должен поэтому содержать множество аспектов смысла, провоцировать игру ассоциаций того, кто этот текст воспринимает, а соединение знаков — быть свободным от жестких правил грамматики, дозволяя сцеплять их так, как считает необходимым автор в интересах адекватного решения задачи, которую он перед собой ставит, и которое зависит не только от него самого, но и от особенностей того, к кому обращено высказывание, кого он втягивает в диалог. Такова природа диалогических знаковых систем, или языков общения. Вот почему идеальный язык монологического типа — научный — стремится превратить каждое слово в термин, т. е. в однозначный знак (так же, как и другие, невербальные знаки во имя однозначной трактовки, скажем, цвета в географической карте, диаграмме, светофоре), а идеальный диалогический язык многозначен и потому принципиально нетерминологичен. Так метафоричен язык искусства — метафора ведь по сути своей многозначна. В этом свете становится понятным, что если идеальный язык бытового и делового общения людей — это живая, устная, звучащая речь (не случайно ученые установили, что она по природе своей диалогична), то оптимальное средство коммуникации — письменный язык, противопоставляющий индивидуализированному характеру речи свою безличностную структуру, описываемую в учебниках и словарях и императивно навязываемую каждому, кто хочет этим языком овладеть; понятно и то, что именно в живой, диалогической речи активнейшую роль играет внутренняя форма слова, превращающая его, как это точно отметил еще А. Потебня, в мельчайший художественный образ с его ассоциативной изобразительностью, эмоциональной экспрессивностью и многозначностью, научный же язык, широко пользуясь метафорами, превращает их в термины, "внутреннюю форму" которых мы очень быстро перестаем воспринимать (скажем, в обозначениях "магнитные волны", "грудная клетка", "черная дыра" и т. д. и т. п.); систематическое обнажение внутренней формы слова, которое мы встречаем, например, в ярко написанных теоретических работах Г. Гачева, — редкий случай в научных текстах. Понятна, наконец, и повышенная экспрессивность диалогической речи в сравнении с гораздо более рациональным, холодным письменным текстом — ведь последний почти полностью утратил такое сильное средство эмоциональной выразительности, как интонация, которая в звучащей речи неотрывна от высказываемого смысла. Диалогический тип языка уже в бытовом, политическом, религиозном употреблении насыщается художественными элементами, которые обладают особой способностью организовывать общение людей, связывая человека с человеком как субъекта с субъектом; но оптимальным способом общения становятся чисто художественные языки, складывающиеся на базе всех осваиваемых в семиозисе культуры средств — словесных (язык искусства слова), жестомимических (язык танца, пантомимы, актерского искусства), звукоинтонационных (музыкальный язык), пластических (языки живописи, графики, скульптуры и языки архитектуры, прикладных искусств, дизайна). У художественных языков нет словарей с фиксированным значением знаков, нет грамматики (отчего нередко говорят вообще о незнаковом характере художественной ткани, как будто монологические языки, языки коммуникации должны быть мерилом реализации языком его семиотических функций), что и отличает их от языков черчения, проектного моделирования (макетирования), дорожной сигнализации, жестовой символики религиозного обряда или военного быта. Ибо знаки в искусстве — не нечто отдельное от образов, как нередко утверждает догматическая эстетика, не особое, частного значения, средство, а сторона образности, имманентно ей присущая и обеспечивающая образу возможность быть пережитым и понятым людьми. Так проявляет себя синкретизм художественно-образного способа освоения мира. Отсюда становится понятным, что этот способ рождается не в самом искусстве — здесь он только получает концентрированное и специализированное выражение — а в обыденном сознании и обыденном поведении людей — как метафорические структуры речи, как ее ритмо-тембро-интонационные структуры, как жестомимическая выразительность поведения, как элементы перевоплощения при исполнении человеком той или иной жизненной роли. Особенно ярко это рождение художественной образности видно по жизни ребенка — его насыщенная метафорами и сравнениями речь, богатство его мимики, жестикуляции и интонаций, легкость перевоплощения, реализующаяся в основном виде его деятельности — так называемой ролевой игре, потребность в рисовании и предельная выразительность графического, пластического и колористического способов изображения позволяют говорить о ребенке как о прирожденном художнике. И хотя большинство взрослых теряют эту способность, если она не превращается в основу профессионального или хотя бы самодеятельного творчества, их обыденная жизнь и повседневное общение и даже специализированные формы деятельности в той или иной степени "инкрустированны" образными структурами; в анализе речи это прекрасно показывал в свое время А. Потебня, в анализе поведения — Н. Евреинов, о детской игре как "художественно-игровом", по сути своей, поведении, как своеобразной детской комедиа-дель-арте было сказано выше. Нельзя, однако, не видеть того, что у художественных знаковых систем по сравнению с диалогическими языками практической жизни есть "слабое место", не позволяющее им стать единственными или хотя бы главными инструментами человеческого общения, — их прочная связь с той информацией, которая говорит об ирреальном, воображаемом, фантазируемом, вымышленном мире. Поэтому художественные языки лишь дополняют языки практического общения, но не могут заменить их. Все же культура находит возможность включать средства художественного общения в жизненную практику, совмещая информативно-монологические и художественно-диалогические способы связи человека с человеком: такова двуслойная семиотическая структура описанных мною выше бифункциональных (прикладных) искусств — от архитектуры до ораторского искусства, от дизайна до художественной публицистики. Более того — все чаще в культуре Нового времени возникает потребность в скрещении обоих типов языка в одном и том же произведении — скажем, в мемуарах (от "Исповеди" Ж.-Ж. Руссо до дневника Анны Франк), в документально-художественном фильме (скажем, в. "Обыкновенном фашизме" М. Ромма), в научно-художественных повествованиях (яркий пример — "Неизбежность странного мира" Д. Данина). Результирующая схема 34 фиксирует полученную нами общую картину:
Если же мы захотим посмотреть на семиотическую "топографию" культуры исторически, то получим такую картину (см. схему 35):
Уже эта схема говорит о необходимости подключить к структурно-функциональному анализу семиозиса культуры его специальное историческое рассмотрение. Оно показывает, что семиотическая структура культуры приобрела в историческом процессе автономизации различных языков и их разнообразного использования спектральный характер. Спектр этот начинается в специализированных сферах практической жизни людей — производственной и социально-организационной: здесь все языки культуры работают утилитарно, служа средствами передачи в социальном пространстве и в социальном времени — т. е. от человека к человеку и от поколения к поколению — необходимой интеллектуальной информации. В обыденной жизни, именуемой обычно "бытом", передача деловых сообщений сопровождается той или иной мерой необходимой эмоциональной экспрессии и потому требует включения в семиотическую ткань повседневного общения художественно-образных "медальонов", "инкрустаций", спорадически вспыхивающих и гаснущих образных элементов — скажем, включения метафор, сравнений, других тропов в обыденную речь; напевности и жестовых интонаций в соответствующие средства коммуникации; художественных элементов в рисунки, иллюстрирующие книги, в одежду и обстановку жилища. Вместе с тем совершенствование языковых структур ведет к обретению ими эстетической ценности, которая может нарастать до такой степени, что в ряде случаев соотношение утилитарной и эстетической функций текста меняется и главным становится в нем не передаваемая содержательная информация, а-то, как она в нем воплощена (например, в переходе от сухого и строгого описания фактов к стремлению излагать их красиво — так рождается "красноречие", т. е. "красиворечие" и, наконец, к бессодержательной болтовне, в которой красота говорения скрадывает пустоту содержания); другой спектр являет журналистика, охватывающая разные типы текстов — от фактографической информации через художественный очерк до документальной повести. Аналогичный спектр можно увидеть в графике Леонардо да Винчи — от научно-иллюстрационных рисунков через технически-художественные и художественно-технические к чисто художественным, при соответствующем появлении и нарастании значения эстетических качеств этих изображений; наконец, на другом краю спектра находятся языки искусства, которые служат выражению художественного содержа ния при необходимой для этого высокой эстетической ценности самих способов его выражения. Эту морфологическую структуру семиозиса культуры делает наглядной схема36:
В более пристальном рассмотрении схема эта приобретает детализированный характер (см. схему 37), показывая, в частности, что образующиеся ряды модификаций знаковых систем имеют и по горизонтали, и по вертикали спектральный характер, что выявляет полноту представленных в ней языковых средств культуры.
Глава 13. ПРОЦЕССЫ РАСПРЕДМЕЧИВАНИЯ И ОБЩЕНИЯ: КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ ДЕЯТЕЛЬНОГО ПРИСВОЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОПЫТА 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|