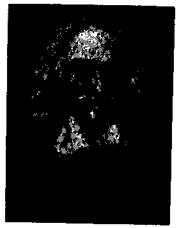|
|
Обозначенное число категорий — десять — ни на чем не основаноНет человека, который бы не знал, сколь прославлено у аристотеликов это деление на категории, предикаменты, или высшие роды; это и есть тот фундамент, на котором возведен Ликей, вернее, это та сокровищница, в которой перипатетики сосредоточили все свои богатства. Поэтому они так упорно сражаются за десять категорий, что любую попытку утаить одну из них они считают равносильной попытке унести Палладий '. Бесспорно, категории представляются им как бы несокрушимым бастионом, на котором зиждется благополучие философии, и они так убеждены в этом, что готовы за них биться с не меньшим пылом, чем за домашние святыни. Поэтому не следует удивляться тому, что вряд ли какое-нибудь другое слово употребляется у них чаще, чем слово «категория» [...]. .Что мы можем, прежде всего, понять с помощью категорий? Ты утверждаешь, что существуют как бы некие разряды, как бы вместилища, в которых можно четко и по порядку раз- местить абсолютно все на свете. Это, конечно, великолепно; но почему именно десять? Ведь я считал, что божественный Платон, тщательно обозрев все боговдохновенным взглядом, увидел только шесть категорий8. Однако, безусловно, в каком-то уголке укрылись еще четыре, которые обнаружил Аристотель; но славу этого открытия следует приписать не Аристотелю, а Архиту Тарентскому9, который уже раньше, как утверждают, написал книгу о десяти категориях. Так или иначе, изобрел ли их Аристотель сам или предпочел подражать пифагорейцам скорее, чем своему учителю, — разве удалось ему все втиснуть в эти десять категорий так, чтобы ничто здесь не ускользнуло? Так ли были необходимы все эти предикаменты, что их нельзя было свести к меньшему числу? Я очень опасаюсь, что здесь мы застрянем, как застревает вода в клепсидре, когда в ней что-то не в порядке; подозрение мое рождено тем, что на пути стоят еще антепредикаменты и постпредикаменты. Означает ли это что-нибудь иное, кроме того, что в десяти предикамен-тах содержится не все? Ведь воины — и те, кто идет впереди, как лазутчики, и триарии, — те, кто следует позади, несмотря на то что ни те ни другие не входят в гущу боевого строя или, так сказать, в его тело. Но как же быть тогда с тем, что, как утверждают, существуют какие-то трансценденты и что категорий никакими цепями не могут их сковать и удержать в своих оковах? И что сами аристотелики хотели бы исключить некоторые из них, но так, чтобы их было не меньше, чем они считают желательным? 2. Если бы не авторитет учителя, аристотелики пренебрегли бы этим числом, потому что им известна возможность задавать о вещах более чем десять вопросов Конечно, заслуживает похвалы то, что даже некоторые аристотелики под давлением самой истины чистосердечно признаются, что они не видят никакого разумного основания, которое успешно подтвердило бы именно это число категорий. Однако, если их спросить, зачем они так усердно защищают это число, они говорят: Нас обязывает к этому авторитет Аристотеля и других философов. Так пусть их заставляет обязанность, поскольку они считают это нужным; но мы, для которых авторитет Аристотеля и перипатетиков не выше, чем авторитет Платона и платоников или Зенона и стоиков, признававших другое число, [...] рассмотрим вкратце, насколько вески те доказательства, которые одни считают абсолютными, а другие, хоть и не называют их абсолютными, все же считают очень убедительными (стр. 244—246). Разделение на субстанцию и акциденцию неправомерно (стр. 249). 4. Сама субстанция справедливо может жаловаться, что ее делают бесплодной; это приложимо и к другим категориям, которым не дают развиваться(стр. 251). 5. Большинство вопросов относительно вещей не может быть охвачено обычными категориями(стр. 254).
ПАСКАЛЬ Влез Паскаль (1623—1662) — французский математик, физик, писатель и религиозный философ. Один из видных представителей нового математического естествознания, создавший в юношеские годы основополагающие работы по исчислению вероятностей и гидростатике. Затем проникся религиозными идеями янсенизма, поселился в аббатстве Пор-Роялъ, заставляя себя отказаться от научной деятельности. Посмертно изданные «Мысли» Паскаля (1669 г., на французском языке) представляют набросок оставшегося незаконченным философского труда. Провозглашая здесь физическую, познавательную и нравственную ничтожность человека, Паскаль видел в христианстве единственное средство постижения человеком тайн бытия и спасения его от отчаяния. Крайний пессимизм и иррационализм, сочетающиеся с религиозным мистицизмом, позволяют характеризовать Паскаля как отдаленного предшественника религиозного экзистенциализма. Отрывки из Паскаля публикуются по изданию: В. Паскаль. «Мысли» (М., 1902), перевод с французского О. Долгова. Подбор произведен В. П. Кузнецовым. МЫСЛИ [...] Весь этот видимый мир есть лишь незаметная, черта в обширном лоне природы. Никакая мысль не обнимет ее. Сколько бы мы ни тщеславились нашим проникновением за пределы мыслимых пространств, мы воспроизведем лишь атомы в сравнении с действительным бытием. Это бесконечная сфера, центр коей везде, а окружность нигде'. [...] Но чтобы увидать другое столь же удивительное чудо, пусть он исследует один из мельчайших известных ему предметов. [...] Я нарисую ему не только видимую Вселенную, но мыслимую необъятность природы в рамке этого атомистического ракурса. Он увидит бесчисленное множество миров, каждый со своим особым небом, планетами, землею таких же размеров, как и наш видимый мир; на этой земле он увидит животных и, наконец, тех же насекомых и в них опять то же, что нашел в первом; встречая еще в других существах то же самое, без конца, без остановки, он должен потеряться в этих чудесах, столь же изумительных по своей малости, сколько другие по их громадности. [...] Кто посмотрит на себя с этой точки зрения, испугается за себя самого. Видя себя в природе помещенным как бы между двумя безднами, бесконечностью и ничтожеством, он содрогнется при виде этих чудес. Я полагаю, что его любопытство превратится в изумление и он будет более расположен созерцать эти чудеса в молчании, чем исследовать их с высокомерием. Да и что же такое наконец человек в природе? Ничто в сравнении с бесконечным, все в сравнении с ничтожеством, средина между ничем и всем. От него, как бесконечно далекого от постижения крайностей, конец вещей и их начало, бесспорно, скрыты в непроницаемой тайне; он одинаково не способен видеть и ничтожество, из которого извлечен, и бесконечность, которая его поглощает. Убедившись в невозможности познать когда-либо начало и конец вещей, он может остановиться только на наружном познании середины между тем и другим. Все сущее, начинаясь в ничтожестве, простирается в бесконечность. Кто может проследить этот изумительный ход? Только виновник этих чудес постигает их; никто другой понять их не может (стр. 14—15). В довершение нашей неспособности к познанию вещей является то обстоятельство, что они сами по себе просты, а мы состоим из 'двух разнородных и противоположных натур: души и тела. Ведь невозможно же допустить, чтобы рассуждающая часть нашей природы была недуховна. Если бы нам считать себя только телесными, то пришлось бы еще скорее отказать себе в познании вещей, так как немыслимее всего утверждать, будто материя может иметь сознание. Да мы и представить себе не можем, каким бы образом она себя сознавала. Следовательно, если мы только материальны, то совсем не можем познавать что-либо; если же состоим из духа и материи, то не можем вполне сознавать простые вещи, т. е. исключительно духовные и исключительно материальные. Ввиду нашей наклонности придавать всем вещам свойства духа и тела казалось бы естественным предположить, что для нас весьма постижим способ слияния этих двух начал. На деле же это именно и оказывается для нас всего непостижимее. Человек сам по себе самый дивный предмет природы, так как, не будучи в состоянии познать, что такое тело, он еще менее может постигнуть сущность духа; всего же непостижимее для него — каким образом тело может соединяться с духом. Это самая непреоборимая для него трудность, несмотря на то что в этом сочетании и заключается особенность его природы [...]. • Вот часть причин недомыслия человека в отношении природы. Она двояко бесконечна, а он конечен и ограничен; она продолжается и существует без перерыва, а он преходящ и смертен; вещи, в частности, погибают и изменяются ежеминутно, и он видит их только мельком; они имеют свое начало и свой конец, а он не знает ни того ни другого; они просты, а он состоит из двух различных натур (стр. 19—20). [...] Человек — самая ничтожная былинка в природе, но былинка мыслящая. Не нужно вооружаться всей Вселенной, чтобы раздавить ее. Для ее умерщвления достаточно небольшого испарения, одной капли воды. Но пусть Вселенная раздавит его, человек станет еще выше и благороднее своего убийцы, потому что он сознает свою смерть. Вселенная же не ведает своего превосходства над человеком. Таким образом, все наше достоинство заключается в мысли. Вот чем должны мы возвышаться, а не пространством и продолжительностью, которых Нам не наполнить. Будем же стараться хорошо мыслить: вот начало нравственности (стр. 25). [...] Без благодати человек полон врожденного и непоправимого заблуждения. Ничто не указывает ему истины; напротив, все вводит его в обман. Оба проводника истины, разум и чувства, помимо присущего обоим недостатка правдивости, еще злоупотребляют друг другом. Чувства обманывают рассудок ложными признаками. Разум тоже не остается в долгу: душевные страсти помрачают чувства и сообщают им ложные впечатления. Таким образом, оба источника для познания истины только затемняют друг друга (стр. 35). [...] Что же человек за химера? Какое невиданное хаотическое существо, какой предмет противоречий, какое чудо? Судья всех вещей, несмысленный червь земной, хранитель правды, смесь неуверенности и заблуждения, слава и отброс Вселенной. Кто разберется в этом хаосе? Природа смущает пиррони-стов2, а разум путает догматистов. Что же будет из тебя, о, человек, который ищешь определить свое действительное положение своим природным рассудком? Тебе нельзя ни избежать одной из этих сект, ни оставаться в какой-либо из них. Познай же, гордец, какой пародокс ты сам для себя представляешь. Смирись, немощный ум, умолкни, несмысленная природа; познай, что человек — существо, бесконечно непонятное для человека, и вопроси у твоего владыки о неведомом тебе истинном твоем состоянии. Послушай бога. [...] Мы познаем истину не одним разумом, но и сердцем; этим-то последним путем мы постигаем первые начала, и на- прасно старается оспаривать их разум, который тут совсем не у места. Напрасен стремящийся только к этому труд пирро-нистов. Мы знаем только, что мы совсем не грезим, как бы ни бессилен был ум наш доказать это; это бессилие свидетельствует лишь о слабости нашего разума, а не о сомнительности всех наших познаний, как они утверждают. Знание первых начал, как, например, что существует пространство, время, движение, число, прочно как ни одно из знаний, получаемых нами путем рассуждения. На эти-то знания сердца и инстинкта должен опираться разум и на них строить свои рассуждения. Сердцем мы чувствуем, что есть три измерения в пространстве и что числа бесконечны, а разум потом доказывает, что нет двух квадратных чисел, из коих одно было бы удвоением другого. Начала чувствуются, а суждения выводятся, то и другое с уверенностью, хотя и различными путями. Смешно со стороны разума требовать у сердца доказательств его основных начал, чтобы согласиться с ними, как одинаково смешно было бы сердцу требовать у разума чувствования всех делаемых им заключений, чтобы принять их. Следовательно, это бессилие должно служить только к смирению разума, которому хотелось бы судить обо всем; а не к опровержению нашей уверенности, как если бы только один разум был способен руководить нами. Дай бог, чтобы, напротив, мы никогда не имели нужды в разуме, а познавали все вещи инстинктом и чувством. Но природа отказала нам в этом благе, сообщив нам лишь весьма немногие понятия такого рода; все другие приобретаются только путем рассуждения (стр. 52—54). " Если бог есть, то он окончательно непостижим, так как, не имея ни частей, ни пределов, он не имеет никакого соотношения с нами. Поэтому мы не способны познать ни что он, ни есть ли он. Раз это так, кто осмелится взять на себя решение этого вопроса? Только не мы, не имеющие с ним никакого соотношения. Как же после этого порицать христиан, что они не могут дать отчета в своем веровании, когда они сами признают, что их религия не такова, чтобы можно было давать в ней отчет? Они заявляют, что "в мирском смысле это безумие. А вы жалуетесь, что они вам не доказывают ее! -Если бы стали доказывать, то не сдержали бы слова: именно это отсутствие с их стороны доказательств и говорит в пользу их разумности. «Да, но если это извиняет тех, кто говорит, что религия недоказываема, и снимает с них упрек в непредставлении доказательств, то это самое не оправдывает принимающих ее». Исследуем этот пункт и скажем: бог есть или бога нет. Но на которую сторону мы склонимся? Разум тут ничего решить не может. Нас разделяет бесконечный хаос. На краю этого бесконечного расстояния разыгрывается игра, исход которой не известен. На что вы будете ставить? Разум здесь не при чем, он не может указать вам выбора. Поэтому не говорите, что сделавшие выбор заблуждаются, так как ничего об этом не знаете. «Нет; но я порицал бы их не за то, что они сделали тот или другой выбор, а за то, что они вообще решились на выбор; так как одинаково заблуждаются и выбравшие чет, как и выбравшие нечет. Самое верное — совсем не играть». Да, но делать ставку необходимо: не в вашей воле играть или не играть. На чем же вы остановитесь? Так как выбор сделать необходимо, то посмотрим, что представляет для вас меньше интереса: вы можете проиграть две вещи, истину и благо, и две вещи вам приходится ставить на карту, ваши разум и волю, ваше познание и ваше блаженство; природа же ваша должна избегать двух вещей: ошибки и бедствия. Раз выбирать необходимо, то ваш разум не потерпит ущерба ни при том, ни при другом выборе. Это бесспорно; ну, а ваше блаженство? Взвесим выигрыш и проигрыш, ставя на то, что бог есть. Возьмем два случая: если выиграете, вы выиграете все; если проиграете, то не потеряете ничего. Поэтому, не колеблясь, ставьте на то, что он есть (стр. 64—65). Чтобы быть истинной, религии нужно знать нашу природу, знать наше величие и в то же время наше ничтожество, а равно и причину того и другого. Какая другая религия, кроме христианской, познала это? [...] Никакая другая религия не учила человека ненавидеть себя. Потому никакая другая религия не может нравиться тем, которые ненавидят себя, ища существа, действительно достойного любви. Такие люди, если бы никогда и не слыхали о религии уничиженного бога, приняли бы ее немедленно. Ни одна религия (кроме христианской) не признала в человеке самой совершенной и в то же время самой жалкой твари. [...] Только наша религия научила, что человек родится во грехе; 'никакая философская секта этого не сказала; стало быть, и ни одна не сказала правды (стр. 68—69). Видя ослепление и жалкое состояние человека (а равно обнаруживающиеся в его природе удивительные противоречия), видя, что Вселенная безмолвна, а человек лишен света, предоставлен самому себе, как бы заблудился в этом уголке мира, не зная, кто и для чего его привел сюда и что с ним будет по смерти, — видя все это, я прихожу в ужас подобно человеку, которого сонного перенесли на пустынный, дикий остров и который, проснувшись, не может понять, где он нахо- s дится и как ему уйти с этого острова. Удивительно, как люди не приходят в отчаяние от такого ужасного положения! Я| вижу других в состоянии, подобно моему, обращаюсь к ним с I вопросом, больше ли меня они сведущи; они отвечают, что нет; i а затем эти несчастные заблудившиеся, осмотревшись и заметив несколько привлекательных предметов, не замедлили им а отдаться и привязались к ним. Что меня касается, я не мог! удовольствоваться этим и, сообразив, что, по всей вероятности^? есть многое помимо видимого мною, начал искать, не оставил! ли бог, о котором говорит весь мир, каких-либо следов своего| существования (стр. 83). Стало быть, верно, что все указывает человеку на его положение; но нужно хорошо понимать это, ибо неверно думать, что все обнаруживает бог, и неверно, чт.о он сокрыт повсюду. Верно же взятое все вместе, т. е. что он скрывается от испытующих его и открывается ищущим его; люди, все вместе, недостойны бога, но могут его удостоиться; недостойны вследствие своего повреждения и достойны по своей первоначальной природе (стр. 123). Метафизические доказательства бога так запутаны и так далеки от человеческих мыслей, что производят впечатление очень слабое: а если бы и принесли пользу некоторым, то разве только в ту минуту, когда эти доказательства у них перед глазами; но час спустя они уже начинают бояться, не обманулись ли [...]. Бог христиан не есть только бог геометрических истин и стихийного порядка; таков бог язычников и эпикурейцев. Это не только бог, промышляющий о жизни и земных благах людей с целью дать ряд счастливых лет жизни поклоняющимся ему: то бог иудеев. Но бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова, бог христиан, есть бог любви и утешения [...]. Бог христиан есть бог, дающий душе чувствовать, что он ее единственное благо, что весь ее покой в нем и единственная радость ее в любви к нему; это бог, внушающий душе в тоже время ненависть к препятствиям, которые ее задерживают в стремлении любить его всеми силами. Самолюбие и чувственность, составляющие эти препятствия, невыносимы для души, и бог дает ей чувствовать, что себялюбие глубоко коренится в ней и что он один может исцелить ее. [...]Все, ищущие бога помимо Иисуса Христа и останавливающиеся на природе, или не находят никакого света, который бы мог удовлетворить их, или кончают тем, что изобретают средство познавать бога и служить ему без посредника, и таким путем доходят или до атеизма, или до деизма — двух вещей, почти одинаково противных христианской религии. Следовательно, все наши стремления должны быть направлены к познанию Иисуса Христа, потому что только через него мы можем получить уверенность, что знаем бога так, как знать его нам полезно. Он есть истинный бог человеков, т. е. немощных и грешных. Он есть предмет и средоточие всего: кто не знает его, не знает ничего ни в порядке мира, ни в себе самом. Ибо, помимо Иисуса Христа, нам недоступно не только познание бога, но и самих себя (стр. 131—132). ГОББС Томас Гоббс (1588—1679) — великий английский философ и политический мыслитель. Родился в семье сельского священника. Учился в Оксфордском университете, откуда вынес хорошее знание латинского и греческого языков. В дальнейшем
стал воспитателем в одном из аристократических семейств, что позволило философу установить, связи с правящими придворными кругами Англии. Совершил несколько поездок на Европейский континент, прожив здесь (особенно в Париже) в общей сложности около 20 лет. Глубоко изучил достижения континентальной науки и философии, был лично Знаком с Галилеем, Гассен-ди, по-видимому, с Декартом и другими её выдающимися представителями. Первым наброском философской системы Гоббса стало небольшое сочинение, написанное по-английски в 1640 г., распространявшееся в течение нескольких лет в рукописи и изданное в 1650 г. в виде двух отдельных произведений — «Человеческая природа» и «О политическом теле». События начавшейся в 1640 г. английской буржуазной революции вынудили Гоббса покинуть Англию и пополнить ряды роялистской эмиграции в Париже. Эти же события заострили его интерес к осмыслению общественно-политической проблематики и заставили в 1642 г. выпустить сочинение «О гражданине» (на латинском языке), которое по общему замыслу философской системы Гоббса составляет ее третью часть. Все более расходясь с роялистской эмиграцией, в которой большую роль играли клерикальные круги, философ вернулся в Англию, где в эти годы правил лорд-протектор Кромвель, с которым он сотрудничал по некоторым вопросам. В 1651 г. с соизволения Кромвеля в Лондоне появилось самое большое фило-софско-социологическое произведение Гоббса — «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (на английском языке), продолжавшее антиклерикальные идеи «О гражданине» и задуманное как оправдание диктатуры Кромвеля. В 1655 г. Гоббс публикует свою работу «О теле» (на латинском языке), представляющую первую часть его философской системы и излагающую его методологию, учение о зна- ' нии и общие вопросы истолкования бытия, природы. В 1658 г. появилась вторая часть философской системы Гоббса — «О человеке» (тоже на латинском языке). В основу настоящей подборки текстов положены отрывки из «Левиафана». Они дополнены отрывками и из других произведений философа. Все отрывки печатаются по изданию «Избранных произведений» Гоббса (М., 1964 г., т. 1—2). Подбор произведен Е. М. Вейцманом. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2026 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|