
|
|
Проблема источников происхожденияПроблема истоков всегда была огромной по значимости для человеческого сознания. Уже в мифологиях разных народов содержатся предварительные ответы наданный вопрос. Но сам вопрос в большей части его формулировок свидетельствует о до-эволюционном способе мышления. Люди по привычке спрашивали (и отвечали): каким образом и когда возникло общество? Именно в такой постановке вопрос устарел и ответы на него, втом числе вдухе теории «общественного договора», были отброшены за ненадобностью. Зародыши общества следует искать в самих истоках жизни, и, если бы таковые существовали в некотором абсолютном смысле слова, то мы все равно ничего бы о них не знали. Однако мы продолжаем задавать эти вопросы относительно происхождения семьи, государства, церкви, закона и других социальных образований, хотя поиски их истоков могут остаться столь же напрасными, как и у приверженцев теории «общественного договора». На первый взгляд эти вопросы кажутся достаточно разумными. Ведь было же время, когда не существовало ни государства, ни церкви! Следовательно, мы полагаем, что у них должно быть некое историческое начало. Так появляются различные теории происхождения. Утверждается, например, что государство
Когда и как возникло государство? Рассмотрим одну из теорий происхождения государства для того, чтобы показать, как такие теории вводят нас в заблуждение. Франц Оппенгеймер (F. Oppenheimer) в своей книге «Государство» приводит следующую версию хорошо известной марксистской доктрины его происхождения.' Он указывает на то, что существуют два основных и в то же время фундаментально противостоящих друг другу способа удовлетворения потребностей человеком. Один из них — это труд, второй — грабеж или эксплуатация труда других. Первый является экономическим способом, второй — политическим; и государство возникло там, где политические средства становятся организованными. Есть народы, у которых не обнаруживается ни малейшего признака государства. Это первобытные собиратели и охотники. У них есть социальная структура, но нет политической. Политическая структура возникает у скотоводов и викингов — первых в истории групп, которые эксплуатируют других или насильно отбирают у них продукты их труда. У этих групп возникают классовые различия, основывающиеся на богатстве и бедности, на привилегиях и отсутствии таковых. Наиболее значительным из этих различий является различие между рабовладельцем и рабом. Именно воины-кочевники изобрели рабство — зародыш государства. Крестьянин, обрабатывающий землю, который работает ради собственного обеспечения, не мог додуматься до рабства. Когда его 1 Английское издание: Нью-Йорк, 1926. Теория эксплуатации не является характерной только для марксистских авторов. Она также обосновывается авторами, принадлежащими совсем другим школам. Примером может служить Л. фон Гум-плович и его работа «Социологическое» (Soziologische. 2nd ed. Innsbruck, 1902) покоряет воин и он начинает платить дань, появляется сухопутное государство (the land state). Аналогичным образом в результате набегов викингов на прибрежные территории и их ограбления создается государство морского типа (the maritime state). Если бы на этом этапе рассуждений Оппенгеймер показал важность той роли, которую играли грабеж и эксплуатация на ранних этапах создания государства, это было бы очень важно. Это повлекло бы за собой изучение связи вышеозначенных факторов с другими факторами, а также подробное и сложное историческое исследование, которое он заменяет некими догматическими предположениями. Во-первых, определение политических средств как грабежа является весьма спорным. А из этого очень просто следует, что государство, будучи политической организацией, возникло именно так, как он это описывает. По этому определению банда пиратов будет государством, но не потому, что она организованна, а потому — что она организована для грабежа. Поскольку государство, несомненно, служит для других целей; поскольку оно призвано обеспечить соблюдение принципа внутренней справедливости таким образом, чтобы споры человека с человеком решались через суд, а не путем насилия; поскольку экономика — лишь одна из сфер, на которые распространяются интересы государства, лишь один из способов, с помощью которого с древнейших времен государство обеспечивало солидарность группы, постольку отождествление политических средств с эксплуатацией является упрощением, вытекающим из неадекватности мышления. Каким бы значимым ни был мотив эксплуатации, он сам по себе никогда не работал. Авторитет старших по отношению к младшим не был эксплуатацией, однако он сыграл свою роль в процессе создания государства. Присущее племени чувство справедливости вызвало к жизни институты права, которые, в свою очередь, стали условиями возникновения государства. Многие другие факторы внесли свою лепту в утверждение своего рода политической лояльности, без которой государство никогда бы не достигло стадии зрелости. Таким образом, мы вновь вернулись к вопросу: что собой представляет государство, коль скоро оно приобрело видимые очертания'! Можно сказать, что государство подразумевает территорию, на которой с помощью закона поддерживается единообразный порядок, включая известное принуждение по отношению к тем, кто этот порядок нарушает, и, следовательно, оно представляет собою некоторый авторитет, к которому можно апеллировать. Это — объективный факт, в котором, несомненно, находят выражение многие свойства
человеческой природы. Теперь, кажется, нет народов, у которых бы не прослеживались рудименты этого порядка, предвосхищающего государство. Устойчивое правительство может и отсутствовать, однако всегда имеются некоторые элементы организации, из которых такое правительство может возникнуть. Существуют старейшины, либо это может быть вождь или знахарь-шаман, которые обладают авторитетом того или иного рода. Этот авторитет может, очевидно, опираться на возраст, на происхождение, на доблесть, на религиозные знания, на магические способности, но этот авторитет не лишен некоторой политической значимости. В малой группе, скажем у обитателей Андаманских островов2, отсутствует государство в том смысле, в каком его понимаем мы. Однако у них уже есть зародыши государственной организации в виде обычая, распространяющего свое влияние при помощи социальных санкций над территориальными особенностями, и лиц, умудренных жизненным опытом, обладающих престижем, способных завоевать уважение и обеспечить послушание. Возникновение, а не начало Таким образом, речь должна идти скорее о процессе возникновения (emergence) государства, нежели о его происхождении (origin). Это некоторая структура, которая в ходе определенного процесса становится более отчетливой, более развитой, более устойчивой. Организация государства выделяется из организации родового общества. Обычай перерастает в закон. Патриарх становится политическим руководителем, судья становится королем. Исследуя этот процесс исторически, мы можем лучше понять утверждение, что, хотя было время, когда не существовало государства, само государство не имеет начала во времени. Его рождение есть факт из области логики, только его эволюция принадлежит истории. Идея исторических корней соотносится в данном случае с актом особого творения в до-эволюционном понимании. У индейцев из племени ирокезов или у жителей Андаманских островов нет государства, тем не менее они в известном смысле существа политические, равно как они в определенной степени религиозные существа, хотя у них отсутствует и церковь. В ином контексте мы уже указывали на то, что применение к ранним стадиям социального развития понятий, характерных для более поздних и развитых стадий, может привести к искаженному пони- манию реальности. Иногда какое-то понятие является достаточным для того, чтобы охватить как более простые, так и более развитые социальные формы, которые оно обозначает. Термин «семья» — один из таких примеров .Нов других случаях наши современные понятия обозначают специализированные реалии, которые отсутствовали на ранних стадиях. Это относится к понятию «государство» и связанным с ним понятиями «суверенитет», «правительство», «закон». Специфические формы и функции, обозначаемые этими терминами, отсутствуют не только у первобытных племен вроде меланезийцев или эскимосов, но и в условиях более развитых обществ. И даже когда сами по себе политические институты развиты высоко, как, например, в классической Греции, у нас часто возникает сомнение по поводу применимости к ним термина «государство». Как будет показано ниже, специфические институты возникают раньше, чем специфические ассоциации. У жителей Афин или Спарты не было отдельного термина для обозначения государства. Их слово «полис» не различало государство и сообщество. Каждое сообщество вне зависимости от степени своего развития содержит зародышевые элементы государства. Мы представляем дело так, что, в отличие от современных обществ, примитивные сообщества были основаны на принципе родства. Однако это не означает, что основы сообщества — совместная жизнь и общая земля — никак не отражались в сознании общей солидарности. Эти факторы были в некоторой степени представлены в сознании и играли важную роль. Р.Г. Лови (R.H. Lowie) убедительно доказал, что в обществах, основанных преимущественно на кровном родстве, территориальное землячество (locality) также служило в качестве социального скрепа3. Если чувство территориальной сопряженности не было достаточно выражено, то рассеивалась и социальная сплоченность родственной группы. Благодаря этому чувству сопряженности, по крайней мере отчасти, племя распространяло свою юрисдикцию на район обитания, стирая различия между семьями, а также обеспечивало включение в род чужаков и тому подобное. И другие связи, например религиозные, сливались с родовыми связями. Действительно, под спудом родства в неявном состоянии пребывали все основные социальные отношения, включая рудименты государства. Как и в случае с государством, можно показать, что поиск специфических источников происхождения будет напрасным и в
2 Цепь островов между Бенгальским заливом и Андаманским мысом. — Прим. пер. 3 Происхождение государства, гл.4. См. также: Голденвейзер A. (Goldenweiser). Ранние цивилизации. Гл.12.
отношении других существенных элементов социальной структуры. Мы уже видели, что попытка обнаружить изначальную, конкретную форму семьи окончилась неудачей. Далее, рассматривая возникновение церкви, мы увидим, что этот процесс не имеет ничего общего с идеей о конкретном историческом начале церкви. Говорить об истоках происхождения в данном контексте допустимо лишь в том случае, если под ними мы имеем в виду процесс формирования, который сам не имеет точного исходного пункта. У каких видов социальных явлений есть определенное начало и конец? Вместе с тем можно с уверенностью утверждать, что некоторые социальные феномены имеют как начало, так и конец. Разве не исчезали многие институты и разве не возникали другие? Разве в истории не рассыпаны свидетельства о закате организаций — от империй до отживших сект? На этот вопрос мы отвечаем в том плане, что мы имеем дело с социальными типами, а не с их конкретными воплощениями, которые постоянно появляются и исчезают. Тип сам по себе есть совершенно другая категория; он проявляется только как процесс. Здесь снова может последовать возражение, что и типовые формы (type-forms) также исчезают в определенные исторические моменты. Разве не исчезло рабство или, даже если оно сохраняется в некоторых частях света, разве оно не поставлено вне закона в результате его всеобщего запрещения? Разве не исчезли тотемизм и классификационная система родства в наиболее развитых обществах? Если у вещей есть конец, нет ли у них также и начала? Рассмотрим прежде два последних случая. С точки зрения логики наших рассуждений, вовсе не обязательно утверждать, что все социальные типы должны полностью исчезнуть. По этой же причине исчезновение некоторых форм жизни не влияет на теорию эволюции видов. В данном случае неприменим и тот аргумент, что если что-то заканчивается в определенный исторический момент, значит, оно должно было и возникнуть в определенный исторический момент. Поскольку то, что заканчивается, является специализированной формой, постольку она не возникает как таковая, а только усложняется в плане специализации. При этом даже те социальные типовые формы, о которых мы думаем, что они исчезли, могут оказаться весьма жизнеспособными. Тотемизм в своем полном объеме, как основа социальной идентификации и группообразования, отсутствует в цивилизованном обществе, тогда как для множества первобытных народов он является весьма характерным. Однако типовая форма тотемизма в остаточном виде встречается и у нас. Он проявляется, как указывает Голденвейзер, в ношении талисманов, связанных с животными, в эмблемах политических партий, значках, амулетах и в таких символах, как знамена и флаги колледжа, в использовании групповых названий, как, например, Лоси, Львы и т.д. «Имена и названия вещей, которые используются подобным образом в качестве идентификационных знаков и символов, обычно коренятся в эмоциональных структурах сознания. В случае с полковыми знаменами эмоции могут достигать огромной силы, в случае же с талисманами, связанными с животными, речь идет о комплексе установок и обрядов, столь любопытных и экзотических, что это живо напоминает о первобытном тотемизме. Это факт, что восприятие сверхъестественного, равно как социальные тенденции времен тотемизма, сохраняются в современном обществе. Однако в нашей цивилизации эти тенденции растворены, поскольку отсутствуют условия для их кристаллизации, в то время как в первобытном обществе те же самые тенденции... действуют как весьма характерный институт культуры»4. Напротив, можно сказать, что многие тенденции, которые в первобытном обществе пребывают в «состоянии раствора», «кристаллизуются» в нашей цивилизации. Вновь мы возвращаемся к классификационной системе родства, столь, казалось бы, чуждой для нас, но которая тем не менее в виде еле заметных следов встречается у нас. Мы применяем термины «брат» и «сестра» к представителям различных социальных общностей и, как также отмечает Голденвейзер, мы даже используем некоторые термины, обозначающие родство, в целях классификации. Например, мы используем термины «дядя» и «тетя» в том смысле, в котором они не использовались в первобытных группах. Наконец, давайте рассмотрим случай с рабством, поскольку он служит примером еще одного различения. Рабство было отменено у нас в определенный исторический момент. Это был древнейший институт человечества. Нет нужды сейчас останавливаться, чтобы определить, являются ли дошедшие до наших дней выражения вроде «долгового рабства» или «белого раба» содержательными или курьезными в силу того, что тот определенный тип экономических отношений, который вполне справедливо именовался «рабством», исчез из социальной действительности. Здесь мы имеем дело с тем, что однажды принятая социальная система впоследствии стала не- 4 Голденвейзер. Ранние цивилизации. Гл.13.
Социальные отношения претерпевают бесконечный ряд трансформаций, растут и увядают, сливаются и распадаются. Поскольку все они выражают человеческую природу, постольку ныне существующие социальные отношения обнаруживаются, по крайней мере в зародыше, в прошлом. А прошлые отношения сохраняются, пусть даже в качестве реликтов, в настоящем. Мы различаем стадии социального развития не столько по самому присутствию или отсутствию тех или иных социальных факторов, сколько по степени их выраженности, по их отношению к другим, по их организующей функции5. (Даже те институты, которые были уничтожены, как, например, рабство, продолжают сохраняться «в форме раствора», будучи готовы «выкристаллизоваться» вновь, если появится хоть какая-то возможность). Наиболее значительные социальные изменения — это не те, которые вызывают к жизни нечто совершенно новое, но те, которые приводят к новому соотношению вечных, вездесущих, всеобщих факторов. Шов может все время меняться, но нить продолжает тянуться. Действительно новым является не столько возникновение некоего нового фактора, сколько изменение интонации, акцента (emphasis). Так, например, демократия не является формой правления (или образом жизни), полностью отличной от олигархии или диктатуры. Элементы всех трех форм сосуществуют одновременно; различие состоит лишь в степени преобладания одного над другими. Непрерывность, следовательно, является существенной чертой эволюционного процесса. Непрерывность — это единство изменения и постоянства, и когда в этом единстве мы движемся в направлении к социальной дифференциации, мы идем по пути эволюции.... 5 Мы можем выделить стадии технологического развития в отличие от стадий развития социального по наличию или отсутствию особых приспособлений или изобретений, как это постоянно делает, например, Ф. Мюллер-Лайер в своей «Истории социального развития». См.: History of Social Development. London, 1923. Примитивное общество как функционально недифференцированное Функциональная взаимозависимость групп и организаций, присущих развитой социальной системе, практически полностью отсутствует в первобытном обществе. Его главные деления на семьи, кланы, экзогамные группы, тотемные группы делают его сегментарным или ячеистым (compartmental). В нем существует чрезвычайно сложная система церемониальных институтов (offices) и система родственных связей, более детальная, чем в цивилизованном обществе. Однако в первобытном обществе немного групп или категорий, в которые объединяются его члены для решения практических задач совместной жизни. Преобладающими являются группировки по принципу родства, которые всецело подчиняют себе членов общества. Сам факт принадлежности к роду автоматически влечет за собой то, что человек включается в круг общеобязательных прав и обязанностей, придерживается обычаев, следует ритуалам, нормам и разделяет верования целого. Это, разумеется, группировки «естественного» типа, в особенности те, которые основаны на признаках возраста и пола. Здесь могут возникать и престижные группы, не исключено и образование простейшей системы классов или каст, хотя эти последние не встречаются внаиболее примитивных условиях. Возможны некоторые зачатки различий по занятиям, однако разделение труда носит весьма узкий характер и обычно не выходит за «естественные» рамки, связанные с различиями между полами, старшими и младшими. Крупные ассоциации еще не существуют. Отсутствует самостоятельный институт религии, не говоря уже о конфессиях; нет школ, организованных культурных ассоциаций; специализация производства и обмена весьма низкая. Кроме групп, основанных на временном партнерстве по обмену и т.п., единственные чисто ассоциативные группы — это обычно «тайные общества», не обязательно функционального толка. Сам факт, что они «тайные», свидетельствует о том, что общество еще не нашло эффективного способа их инкорпорирования. Нерасчлененный характер первобытного общества становится очевидным из преобладания примитивного коммунизма. Род — это большая семья, и в нем проявляются коммунистические свойства семьи. Племя создает систему участия в дележе охотничьей добычи и плодов земли. Личные или семейные права признаются только в части узуфрукта6, а не в собственности на землю. Даже те права, 6 Право пользования плодами собственности (земли, имущества и т.д.) без изменения ее основ. — Прим. пер.
которые у нас имеют наиболее личностный или интимный характер, были тогда правами кровного братства. Одалживание жен гостям племени, что является типичным для американских индейцев и многих племен в Африке, Полинезии и Азии, может рассматриваться как способ принятия гостя в круг племенных «свобод». Так, Джулиус Липперт (J. Lippert) полагает, что «гость получает все права членов племени, и особая святость (sanctity) данных отношений восстанавливает древние права гостя»7. Разрешение сексуальной свободы во время брачных празднеств; институт «дома невесты», сохранившийся у некоторых африканских племен, когда невеста была доступна для членов племени; проституция перед замужеством, как храмовый обряд в Вавилоне — могут быть истолкованы как пережитки полового коммунизма или, по крайней мере, как утверждение прав передтем, как они будут отчуждены в браке, — тех прав, которые воспринимались в качестве органически присущих всему племени. Такого рода коммунизм воплощает простую солидарность нерас-члененного сообщества. Дифференциация, которая в нем существует, основана на естественных различиях, подобно различиям между молодыми и старыми, мужчинами и женщинами, подобно различиям в склонностях, например склонность к лидерству у одних и ее отсутствие у других, а также на некоторых социально приобретенных различиях, связанных, например, с наследованием церемониальной должности или магического знания. Бесчисленное множество линий дифференциации, характерных для цивилизованного общества, в первобытном обществе остается еще скрытым. Различные интересы, склонности, способности, которые могут проявляться в рудиментарной форме, не имеют возможности для развития в пределах ограниченного поля совместной жизни. Социальное наследие слишком негибко, чтобы избирательно стимулировать их развитие. Нравы, соответствующие этому наследию, скорее подавляют данные различия, поскольку они воспринимаются как угроза солидарности на почве единомыслия — единственному виду солидарности, на которую группа, как целое, тогда была способна. Цивилизации прошлого и настоящего возникли из этого раннего этапа. Как они возникли, под действием каких слепых сил, направленных на завоевание, покорение и экспансию, создававших полюса богатства и бедности, классовые различия, путем какого воспитания в области искусств, в результате какого сочетания обычаев и верований, приведшего к известному освобождению сознания, 7 Evolution of Culture (tr. Murdock, New York, 1931). P. 217 путем какого приращения научных знаний и их практического приложения — вот главная тема человеческой истории. Для нас здесь достаточно обратить внимание на принципиальную разницу. Для нашей стадии развития характерно то, что у нас существует огромное множество организаций, причем принадлежность к одной никак не влияет на принадлежность к другим организациям. Наряду с этим любой вид интересов влечет за собой создание соответствующей ассоциации, практически каждый вид установок может найти некоторое социальное подкрепление, и, таким образом, большое социальное единство, к которому мы принадлежим, реализуется как множественное по формам, а не унифицированное. От участников «большого общества» требуется соответствующее интеллектуальное усилие, и многие из тех, кто на это неспособны, принадлежат к этому обществу чисто формально, а не по духу. Роль диффузии в социальной эволюции Сколь бы длительным и сложным ни казался эволюционный процесс в исторической ретроспективе, он протекал все же достаточно быстро в сравнении с эволюцией органического мира. Мы уже обращали внимание на относительно высокую скорость социальных изменений, сейчас мы можем также добавить, что социальная эволюция происходила значительно более высокими темпами, чем эволюция биологического порядка. Ни один из типов простейших животных не превращался в развитый тип в течение такого короткого времени, как это происходило в обозримой человеческой истории. Сама идея подобного сравнения кажется абсурдной. Но в течение этого периода одно первобытное общество за другим переходило на такую стадию, когда, по крайней мере в сравнительном плане, обнаруживаются более развитые структуры. Социальная эволюция не зависит от органической эволюции в том смысле, что люди оказываются способными использовать для достижения своих целей орудия, которые не являются частью их физической природы. Кроме того, применяя эти орудия, люди в определенной степени руководствуются разумом, а не одним лишь инстинктом. Вооруженные подобным образом, они способны быстро приумножать свое культурное наследие, передавать его эволюционный потенциал своим потомкам и обеспечивать их коммуникацию с другими людьми на планете. Иногда диффузия и эволюция рассматриваются как противоположные принципы в объяснении социального изменения. Но в действительности такое противопоставление неоправданно. Диффузия должна рассматриваться как один из наиболее важных факторов
Антиэволюционные влияния Нет нужды говорить, что становление нынешней системы дифференциации происходило в течение веков. При этом тормозящее воздействие, исходившее из древнего представления о солидарности, было весьма сильным. В той или иной степени оно сохраняется и по сей день. В процессе образования современного общества, как правило, государство (иногда эту функцию выполняла церковь) стремилось предотвратить дальнейшую дифференциацию путем включения всех других организаций в свою структуру, подчинения их тому согласию, источником которого оно выступало. Гоббс в XVII в. обличал свободные ассоциации, которые подобны «червям в кишках живого человека», а уже в конце XVIII в. во время Великой французской революции была сделана попытка под знаменем свободы запретить все корпоративные организации. Как Руссо, так и в не меньшей степени Бёрк, — с одной стороны, философ революции, а с другой — философ реакции (столь медленно наше сознание воспринимает новые социальные факты) — не допускали еще раздельного существования государства и церкви. Они еще верили в «универсальное партнерство», обеспечивающее культурно однородное (culturally inclusive) членство в обществе. Даже сегодня предпринимаются отдельные попытки воссоздать великие общества на почве примитивной солидарности. Это явствует из апелляции как к фашистским, так и к коммунистическим принципам, а еще более — из национал-социалистической политики в Германии. Но какими бы ни были притязания этих противоположных принципов (напомним, что в данном случае речь идет о социальной эволюции, а не о социальном прогрессе), важно обратить внимание на то, что эти попытки оказались успешными только в тех странах, которые в незначительной степени или в течение краткого периода времени испытывали влияние факторов, увеличивающих разнообразие: современного индустриализма, культурного и религиозного плюрализма, конфликтов по поводу свободы ассоциаций. Успех такого рода политических действий обеспечивался лишь благодаря установлению принудительного контроля, подавлявшего самым насильственным образом те различия, которые в противном случае были бы неизбежны. Надо учесть и тот факт, что эти практики возникли как внезапные следствия катастрофических и аномальных обстоятельств, а не как результат более или менее упорядоченной последовательности социальных изменений. Главное направление социальной эволюции У нас нет возможности проследить исторический процесс появления этих многочисленных градаций дифференциации. Однако если мы вновь обратимся к первобытным обществам, мы можем обнаружить общие направления этого процесса. Поскольку социальная структура существует лишь как продукт ментальности (creation of mentality), постольку за дифференцированной формой всегда стоит дифференцирующее сознание. Прежде чем возникнут институты, появляются установки и интересы. По мере того как они становятся более определенными, они отражаются в обычаях, приобретающих все более и более институциональный характер. Единая протяженность социальной мысли прерывается действием особых интересов, которые обусловливают разрыв с недифференцированным чувством солидарности. Следовательно, происходит постоянное отклонение социального существования от единообразия общего социального пути, на что защитники племенных обычаев либо не реагируют, либо смотрят сквозь пальцы, либо подавляют эти отклонения. Но если это отклонение неоднократно повторяется, причем в одном и том же направлении, то, при условии изменившихся обстоятельств или появившихся возможностей, оно может получить признание, создавая зону неопределенности внутри старого института или же учреждая новый институт взамен старого. Тем самым образ жизни группы становится более разнообразным, без утраты общего единства. Более того, путем медленного приращения объем (новых) знаний и умений увеличивается, и отдельные члены группы предъявляют на них особые права и становятся признанными специалистами по их применению. Так развиваются особые способы проведения обрядов, особые табу, особые подходы к таинственным силам природы или к сакральному началу племени (sacra of the tribe), другими словами, формируются новые институты.
I. Общинные (communal) обычаи Сплав политико-экономико-семейно-религиозно-культур-ных практик, которые переходят в И. Дифференцированные общинные институты Различные формы политических, экономических, семейных, религиозных, культурных процедур, которые воплощаются в III.Дифференцированные ассоциации Государство, экономическая корпорация, семья, церковь, система образования и т.д. Переход от второй к третьей из этих стадий означает мгновенную (momentous) трансформацию социальной структуры. В условиях первобытного общества могли, разумеется, встречаться небольшие ассоциации случайного происхождения, но большие постоянные ассоциации в том виде, как мы понимаем это сейчас, были тогда немыслимы. Неразвитая солидарность подразумевает, что если ты принадлежишь к племени, ты принадлежишь также и к роду, или принят в него; что если ты живешь жизнью племени, ты веришь и в его богов. Разнообразие институтов, по мере их появления, есть сначала лишь разнообразие тех или иных сторон общинной жизни. В этом увеличивающемся разнообразии скрывается зародыш нового социального порядка, но пройдут века, прежде чем новый порядок будет установлен. Это происходит потому, что новый порядок означает разнообразие, связанное с большей свободой. На нашей второй стадии существует лишь один ряд религиозных институтов, признаваемых всем сообществом, и эти институты остаются тесно связанными с институтами политическими. На нашей третьей стадии эти религиозные институты не только отделяются от государства и становятся культурно автономными, но и последовательно создают множество религиозных ассоциаций. Свобода ассоциаций допускает существование неограниченного множества случайных форм с бесконечным числом взаимосвязей и взаимозависимостей. Однако эти формы основаны на принципах общинной жизни, причем на страже общеобязательных сторон этой общинной жизни отныне стоит государство. Отделение одной большой ассоциации от другой сопровождается глубокой внутренней дифференциацией их соответствующих структур под действием техже самых сил, которые вызвали внешнюю дифференциацию. Потребовался бы отдельный том исследований, чтобы рассмотреть этот процесс целиком. Все, что мы можем сделать в настоящей работе, это предложить краткую иллюстрацию, более четко демонстрирующую действие главного принципа этого процесса. В этих целях мы рассмотрим процесс, в ходе которого возникла организация религии. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
 возникло в результате войны, завоевания и рабства, либо в результате утверждения господствующего класса, либо же оно возникло в результате соглашения или конституции, по поводу которых все люди сразу пришли к согласию. Однако все эти теории вводят нас в заблуждение, поскольку они превратно истолковывают природу эволюционного процесса. Действительно, было время, когда государства не существовало, и все же государство не имеет начала во времени. Здесь нет временного момента его возникновения. Это некий парадокс, но вовсе не противоречие, каковым оно кажется с позиций до-эволюционной мысли. Сегодня мы признаем, что даже у значительных или революционных социальных изменений нет абсолютно точного момента зарождения. Кто скажет, например, когда началась «индустриальная революция»?
возникло в результате войны, завоевания и рабства, либо в результате утверждения господствующего класса, либо же оно возникло в результате соглашения или конституции, по поводу которых все люди сразу пришли к согласию. Однако все эти теории вводят нас в заблуждение, поскольку они превратно истолковывают природу эволюционного процесса. Действительно, было время, когда государства не существовало, и все же государство не имеет начала во времени. Здесь нет временного момента его возникновения. Это некий парадокс, но вовсе не противоречие, каковым оно кажется с позиций до-эволюционной мысли. Сегодня мы признаем, что даже у значительных или революционных социальных изменений нет абсолютно точного момента зарождения. Кто скажет, например, когда началась «индустриальная революция»?
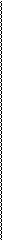 легитимной в правовом или конституционном смыслах. Поскольку рабство включало в себя явно выраженные отношения принуждения, постольку в сложном обществе оно могло существовать только в легальных формах. Способы социального регулирования могут устанавливаться и могут отменяться. У всех специальных институтов, существование которых зависит от соглашения или предписывающего права, имеется дата рождения и, возможно, дата смерти. Однако постоянные формы социальности укоренены более глубоко. Регулирование может их изменять, но оно не может ни создавать их, ни разрушать.
легитимной в правовом или конституционном смыслах. Поскольку рабство включало в себя явно выраженные отношения принуждения, постольку в сложном обществе оно могло существовать только в легальных формах. Способы социального регулирования могут устанавливаться и могут отменяться. У всех специальных институтов, существование которых зависит от соглашения или предписывающего права, имеется дата рождения и, возможно, дата смерти. Однако постоянные формы социальности укоренены более глубоко. Регулирование может их изменять, но оно не может ни создавать их, ни разрушать. социальной эволюции. Все великие цивилизации прошлого находились, насколько можно судить по письменным источникам, под воздействием культурообразующих и конкурентных (formative and challenging) факторов культурного взаимодействия. Цивилизация, возникшая в долине Нила, проникла вплоть до Индии. Созданные в Индии системы мышления достигли Китая, а затем отдельные их элементы внесли свой вклад в становление пробуждающихся цивилизаций Запада. Греки построили свою цивилизацию на наследии Микен, Крита и Египта. Рим с первых своих дней испытывал влияние культурных сил, уже полностью раскрывшихся в Греции. И так остается вплоть до наших дней.
социальной эволюции. Все великие цивилизации прошлого находились, насколько можно судить по письменным источникам, под воздействием культурообразующих и конкурентных (formative and challenging) факторов культурного взаимодействия. Цивилизация, возникшая в долине Нила, проникла вплоть до Индии. Созданные в Индии системы мышления достигли Китая, а затем отдельные их элементы внесли свой вклад в становление пробуждающихся цивилизаций Запада. Греки построили свою цивилизацию на наследии Микен, Крита и Египта. Рим с первых своих дней испытывал влияние культурных сил, уже полностью раскрывшихся в Греции. И так остается вплоть до наших дней.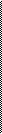
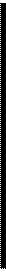 Формирование институтов обычно предшествует — и нередко на весьма длительный период — образованию ассоциаций. Фактически в сравнительно примитивных сообществах переход от институтов к ассоциациям встречается достаточно редко. Это происходит потому, что этап ассоциаций предполагает некоторую эластичность социальной структуры, которую примитивные условия и примитивная ментальность вряд ли могут допустить. Этот этап подразумевает более сложное единство, при котором различие соединяется с тягой к творчеству. Прежде чем право на свободу ассоциаций становится эффективным, общество должно достаточно далеко продвинуться по пути социальной эволюции: масштаб его должен увеличиться, давление общей морали — ослаблено, а интересы — стать гораздо более разнообразными благодаря накоплению знания и усилению специализации в экономической жизни. Только при этих условиях происходит выделение семьи из общей социальной матрицы; она становится автономной единицей, создание и поддержание которой зависит исключительно от желания и воли ее членов. Только при этих условиях единообразная система общинного воспитания распадается на множество отдельных школ и других образовательных учреждений. И, наконец, масштабная политико-религиозная система, претендующая на всеобщий контроль, обнаруживает внутреннюю противоречивость единства, навязанного силой, что влечет за собой формирование разнообразных ассоциаций государства и церкви. Этот процесс может быть представлен в виде следующей схемы:
Формирование институтов обычно предшествует — и нередко на весьма длительный период — образованию ассоциаций. Фактически в сравнительно примитивных сообществах переход от институтов к ассоциациям встречается достаточно редко. Это происходит потому, что этап ассоциаций предполагает некоторую эластичность социальной структуры, которую примитивные условия и примитивная ментальность вряд ли могут допустить. Этот этап подразумевает более сложное единство, при котором различие соединяется с тягой к творчеству. Прежде чем право на свободу ассоциаций становится эффективным, общество должно достаточно далеко продвинуться по пути социальной эволюции: масштаб его должен увеличиться, давление общей морали — ослаблено, а интересы — стать гораздо более разнообразными благодаря накоплению знания и усилению специализации в экономической жизни. Только при этих условиях происходит выделение семьи из общей социальной матрицы; она становится автономной единицей, создание и поддержание которой зависит исключительно от желания и воли ее членов. Только при этих условиях единообразная система общинного воспитания распадается на множество отдельных школ и других образовательных учреждений. И, наконец, масштабная политико-религиозная система, претендующая на всеобщий контроль, обнаруживает внутреннюю противоречивость единства, навязанного силой, что влечет за собой формирование разнообразных ассоциаций государства и церкви. Этот процесс может быть представлен в виде следующей схемы: