
|
|
ОБ УСПЕХАХ, ОШИБКАХ И ПРОЧЕМ 18 главаВсе ли они вправе считать себя его учениками? Предоставим решать это им самим.
Очень это было наглядно: точно мы все увидели, сколько их было. Кто знал Мейерхольда, представит, как он это показал, а описать словами трудно... Когда Э. П. Гарин в первый раз подал заявление об уходе из ГосТИМа (он, как и И. В. Ильинский, не раз уходил и возвращался), В. Э. сказал одной актрисе театра: «Гарин — и тот изменил!..» Могу представить его интонацию, поднятые брови и изумленно выпяченные губы. В этом было меньше обиды, чем недоумения. Перед этим Гарин, раньше щедро одаренный мейерхольдовским вниманием, похвалами, нежностью, триумфально сыгравший Павла Гулячкина (актриса М. Суханова, проработавшая с Мейерхольдом пятнадцать лет, вспоминает слова В. Э.: «Я прямо влюблен в Гарина. И утром, когда встаю, и днем, чтобы ни делал, все думаю и мечтаю, как буду ставить сцену Навлуши Гулячкина,— спросите у Зиночки! Если бы не он, Гарин, играл Гулячкина, не такой бы заварился и спектакль!» ), Хлестакова, Чацкого, был им серьезно и незаслуженно обижен. Повод для ухода был, но Мейерхольд все же удивлялся, словно хотел еще сказать, что Гарин-то мог бы и потерпеть. Я уже приводил фразу из письма Гарина ко мне но поводу истории этого ухода. Продолжу цитату: «Я обиделся, наверно, захотелось попробовать самостоятельности. Когда мы все жили рядом с Мейерхольдом и смотрели, как он работает, начинало казаться, что это дело нехитрое: у него ведь так легко все получалось». И еще через несколько фраз: «Господи! Какие все мы были наивные идиоты! Если бы кто-нибудь подсмотрел в зеркале будущее!..» Как мы видим, через тридцать с лишним лет Гарин склонен обвинять в невыдержанности одного себя. Нет, все это было не просто: любить Мейерхольда, работать с ним, переносить его охлаждение, уходить и снова возвращаться, и опять уходить, с тем чтобы через десятки лет винить себя за недостаток терпения и выдержки... Этот страстный и сложный человек часто наносил незаслуженные горькие обиды преданным друзьям и ученикам. Почти к каждому из них его отношение проходило один и тот же круговой цикл: увлечение, доверие и близость, ревность и подозрительная настороженность. В последней стадии он часто бывал грубо несправедлив. Бывали иногда и возвраты к прежним привязанностям и увлечениям, но очень редко. Они для него не характерны. Чаще бывало противоположное — полный разрыв и только уже на большом отдалении известное смягчение. Инициатива обострения всегда исходила от него самого. Так, например, отношения с Мейерхольдом Эйзенштейна или Ильинского, Бабановой или Гарина — это целые сложные психологические романы. Как это все объяснить? Может быть, еще его ревностью к растущей самостоятельности учеников? Или также свойственным Мейерхольду тяготением к новым людям вокруг себя? Но и эти новые тоже постепенно проходили тот же самый круговой цикл — от увлечения до недоверия, и этим объясняется постоянный человеческий вихрь вокруг него: все эти отталкивания, разрывы, уходы. Его подозрительность все усугубляла, и каждый им же обиженный скоро представлялся его воображению врагом. «Я люблю страстные ситуации и строю их себе в жизни»,— сказал он мне однажды. Он, действительно, строил их в изобилии... Может быть, его всегда влекло к новым людям из жадности и бесконечного любопытства к жизни, которые совсем не ослабевали у него с годами. Все хорошо известное, знакомое и привычное наскучивало, надоедало и казалось пресным. Ведущая черта его характера — постоянное стремление к новому в себе, в жизни, в своем искусстве,— может быть, требовала и нового окружения, новых восторженных глаз вокруг, новых голосов, новых характеров и новых столкновений. «Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала». Можно ли упрекать его в этом? Может быть, эти приливы и отливы, эти смены, эта постоянная новизна были ему необходимы, чтобы не уставать, не стареть, не становиться равнодушным. Отвергнутые и обиженные ученики, однако, редко становились его недругами. Обаяние его творческого гения, нечеловеческого темперамента, огромного, острого ума и на расстоянии подчиняло себе тех, кто покидал его с синяками незаслуженных обид. И — наоборот — на дистанции пространства и времени его влияние еще вырастало. Его вклад в души всех, кто хоть недолго находился вблизи, был слишком велик, чтобы внутренне отречься от него. Это значило бы также отречься от самих себя. Мейерхольд среди множества своих дарований обладал зловещим даром приобретать врагов. Но их круг не совпадал с кругом им лично обиженных. Врагами Мейерхольда были почти всегда те, кто его не знал. В свое время Мейерхольда упрекали еще в том, что он постоянно терял своих лучших учеников, что на каком-то этапе становления они чувствовали потребность вылететь из родного гнезда. Но разве это не естественно? Потребность, самостоятельно испытать свои силы не лучше разве долгого школьничества, которое всегда незаметно превращается в иждивенчество? Если бы мейерхольдовские птенцы не начинали вдруг тяготиться учительской опекой и не покидали его, а сидели под его крылом десятилетиями, скольких крупных режиссеров мы недосчитались бы, на сколько интересных театров у нас было бы меньше. В ученичестве у Мейерхольда всегда содержалась закваска будущей самостоятельности. Это мы видим из всей истории советского театра. Странный деспотизм, который окрылял всех, кто под ним находился! И, может быть, было бы гораздо лучше, если бы чаще уходили и бродили по свету, и откалывались, и расходились, и соревновались воспитанники и сосьетеры дорогого, многоуважаемого МХАТ. Ведь когда-то так и было. Люди уходили, основывали новые театры, росли. И сам Мейерхольд, в молодости восторженный ученик Станиславского, исписывавший свои ранние дневники пламенными панегириками учителю, вдруг в один прекрасный день почувствовал необходимость уйти от него. Так же потом поступали и его собственные лучшие ученики. Худшие всегда оставались. Тогда, рядом с ним, все это казалось не так. Иногда нам попросту хотелось, чтобы Мейерхольд хоть немного перестал быть Мейерхольдом: был бы уживчивее, добродушнее, терпеливее. Но он не удостаивал нас этой милости и упрямо и злонамеренно оставался самим собой: странным, невозможным, непонятным и гениальным. Может быть, все-таки прав Бальзак, сказавший: «Большое дерево иссушает почву вокруг себя. Оно высасывает все соки, чтобы цвести и плодоносить»? Не поэтому ли мейерхольдовские семена давали бурный рост и цвет вдали от самого дерева, а все, что росло рядом, казалось незначительным? Или это обман зрения: лишь закон контраста делал всех маленькими? Мне кажется, что вернее последнее. У Марины Цветаевой есть замечательный цикл стихов, называвшийся «Ученик». Поэт говорит: «Есть некий час — как сброшенная клажа: Когда в себе гордыню укротим. Час ученичества — он в жизни каждой Торжественно-неотвратим...» А дальше — как будто это говорится Мейерхольдом-мучителем: «Я учу: губам полезно Раскаленное железо. Бархатных покров полезне Гвозди — молодым ступням. А еще в ночи беззвездной Под ногой полезны бездны...»
Раскаленного железа и гвоздей хватало. Бездн тоже. Но те, кто проходили через это, делались мастерами. Наперекор учительской ревности, изменчивости, недружелюбию, подозрительности. Наперекор собственному своему желанию быть послушным, примерным, благополучным. С ним это не удавалось. Он не терпел гордецов и обидчивых, но трижды не терпел этих послушных. Они благоразумно оставались при нем, но он их не замечал. А с непослушными иногда впоследствии примирялся. Не со всеми, но с некоторыми. Со всеми не успел. Последний вечер перед своим арестом он провел у Э. П. Гарина, с которым за два года от этого расстался конфликтно и резко. Гарин в это время снимал в Ленинграде фильм «Доктор Калюжный». В. Э. пришел неожиданно — простой, приветливый, легкий. Он пил, не очень весело шутил, просидел несколько часов и ушел в светлую, летнюю ленинградскую ночь по пустынному Кировскому проспекту к дому на набережной Карповки, где у него была квартира. Там его уже ждали. Больше его никто никогда не видел... В это время шел обыск и на его московской квартире, где оставалась 3. Н. Райх.
При жизни у нее было много недругов — теперь их почти нет. Так часто бывает с большими людьми, а 3. Н. Райх была человеком незаурядным, хотя в данном случае и сам Мейерхольд все сделал для того, чтобы его близость не принижала любимого человека, а поднимала и растила. И он этого достиг. В 1917 году молодая красивая женщина работала в Петрограде в редакции газеты «Знамя труда», той газеты, которая первая напечатала «Двенадцать» А. Блока и вокруг которой группировались поэты и художники, сразу признавшие Октябрьскую революцию. Там впервые ее встретил Мейерхольд. Но она тогда еще была вся заполнена вспыхнувшим чувством к Сергею Есенину. Ей было двадцать три года, когда она стала его женой. Но брак этот скоро рухнул, и в 1921 году мы видим 3. Н. уже в Москве студенткой ГВЫРМа на Новинском бульваре. Вскоре в запутанных, кривых переулках между Тверской и Большой Никитской можно было встретить бродящих, тесно прижавшихся друг к другу и накрытых одной шинелью мужчину и женщину. Он знаменит, не молод, утомлен и болен. Она пережила тяжелую драму разрыва с мужем и вела полунищее существование с двумя маленькими детьми. Это были Мейерхольд и 3. Н. Райх. Вокруг них шумело много молодежи: требовательных и ревнивых учеников, которые не хотели уступать его кому бы то ни было. Она еще ничего не умела, но у нее был исконный, женский дар — быть на высоте любимого человека; дар, превращавший судомоек в императриц. Полюбив, он сделал ее первой актрисой своего театра с той не знающей оглядки смелостью, с которой Петр I короновал Марту Скавронскую. На премьере «Великодушного рогоносца» будущая исполнительница роли Стеллы вместе с прославленным постановщиком спектакля вертела мельничные крылья, так как рабочих сцены у молодого театра еще не было, и строго выговаривала своему партнеру, когда он зазевывался, глядя на сцену. В 1924 году, тридцати лет, она дебютировала на сцене ГосТИМа в роли Аксюши в «Лесе» и с тех пор играла почти во всех постановках Мейерхольда. Многое созданное им в этот период его жизни сделано если не под ее прямым влиянием, то ради нее. Некоторых, даже в ближайшем дружеском кругу, это раздражало, и иногда они казались правыми. 3. Н. была горячим, импульсивным человеком, очень прямым, искренним, самолюбивым, и не все советы, даваемые ею, были верхом мудрости. Но относительная правота тех, кто ее осуждал, не была той конечной правотой, с высоты которой нужно судить эти две необыкновенные жизни. Я никогда не примыкал к лагерю скрытых недругов Зинаиды Николаевны, но и мне приходилось сердиться на нее и жаловаться на ее влияние. Однажды, когда я вслух сетовал на 3. Н., племянница и старая ученица Мейерхольда К. И. Гольцева сказала мне то, что я запомнил почти дословно: «Вы не правы, А. К.,— сказала она,— не правы, хотя бы уже потому, что вы не знаете, что если бы не было в жизни Мейерхольда этой огромной, всепоглощающей, страстной любви к ней, то он давно бы превратился в усталого и равнодушного старика. Поверьте мне, перед встречей с 3. Н., в начале двадцатых годов, он казался старше и дряхлее, чем сейчас, через пятнадцать лет. Я видела своими глазами чудо этого омоложения. Если бы не оно, то, может быть, не было бы «Рогоносца», «Леса», «Ревизора», «Дамы с камелиями». Неужели это все не искупает те небольшие оплошности и бестактности, которые иногда делает 3. Н. или он ради нее?..» Это мне показалось убедительным, может быть, потому, что я сам множество раз видел, как «молодел» В. Э. при Зинаиде Николаевне, какую тонизирующую силу влияния имело на него ее простое присутствие рядом.
Рассудительные и благонравные биографы, часто склонны осуждать замечательных людей, героев своих изысканий, за их сердечный выбор. Послушать их — и Пушкин должен был бы остеречься жениться на легкомысленной Натали, и Толстой — вовремя покинуть Софью Андреевну. Даже умный и зоркий И. Бунин не удержался в своей книге о Чехове от запоздалого упрека Антону Павловичу за его брак с актрисой О. Книппер. Мейерхольд получил львиную порцию этих осуждений еще при своей жизни. Иногда они принимали формы почти неприличные. У Мейерхольда была привычка печатать на программках своих спектаклей посвящения. Это он делал еще до революции, делал и после. Он посвящал свои работы Красной Армии, подростку Сереже Вахтангову, сыну Е. Б. Вахтангова, которого очень любил, своему другу пианисту Льву Оборину, гениальному китайскому актеру Мэй Ланьфану, пианисту Софроницкому; посвятил один
спектакль и «ученице-другу 3. Н. Райх». Все принималось как должное, кроме этого последнего посвящения, а оно вызвало непристойную травлю в печати и его и ее. Критик О. С. Литовский в своей книге «Так и было» теперь уже признает, что 3. Н. Райх была талантливой актрисой. Такое же признание делает в своих мемуарах «Сам о себе» И. В. Ильинский, оговаривая, что он был раньше пристрастен к ней и не прав.
Аксюшу в «Лесе» она играла просто отлично, была интересной Анной Андреевной в «Ревизоре», прекрасно играла Веру в «Командарме», Попову в «Медведе» и Маргерит Готье в «Даме с камелиями». В этой сложной и трудной роли она, кажется, впервые получила признание театральной Москвы. В радиоспектакле «Каменный гость» она играла обе женские роли: Дону Анну и Лауру — и превосходно. Потом последовала Наташа — общая неудача; актрисы, труппы и режиссера. В «Борисе Годунове» она должна была играть Марину. Я называю не все ее роли, а те, которые мне больше нравились. В. Э. ее любил глубоко, страстно, нежно. В его умелых, сильных руках она стала актрисой-мастером, хотя, конечно, и тут губительно действовал закон контраста: рядом с ним все казались меньше своего действительного роста, так было и с ней. Он усыновил и воспитал ее детей от С. Есенина. Я помню их подростками — похожую на отца Таню и немного напоминающего 3. Н. Костю. Таня стала журналисткой. Костя — инженер-строитель, один из создателей стадиона имени Ленина и новых жилых массивов Москвы. У Б. Пастернака есть стихотворение «Мейерхольдам», посвященное ему и ей. Поэт метафорически воскрешает в нем библейский миф о сотворении женщины из ребра человека. Этот творец — Мейерхольд-режиссер: «И, протискавшись в мир из-за дисков Наобум размещенных светил, За дрожащую руку артистку На дебют роковой выводил...» Своим внутренним зрением поэт видел дальше, чем друг дома, милейший и добродушнейший Борис Леонидович: дебют и в самом деле стал роковым, если понимать рок как судьбу, так страшно и прекрасно связавшую две жизни — Мейерхольда и его любимой ученицы. Часть вторая
Чачть вторая МЕЙЕРХОЛЬД ГОВОРИТ О СЕБЕ Театр был главным интересом моей жизни с семи лет. Уже в семь лет старшие заставали меня перед зеркалом, где я заставлял трансформироваться свою детскую мордочку. Позднее были еще сильные увлечения музыкой (скрипкой), литературой, политикой, но влечение к театру оказалось сильнее всего. Что на меня больше всего влияло в моей жизни? Влияний было много: во-первых, великая русская литература, лично А. П. Чехов, лично К. С. Станиславский, замечательные мастера старого Малого театра, Блок, Метерлинк, Гауптман, изучение старинных театральных эпох, изучение восточного театра, снова возврат к творчеству великих русских поэтов — Пушкина, Лермонтова, Гоголя,— буря Октябрьской революции и ее суровая красота, новое молодое искусство кинематографа, Маяковский, снова Пушкин, и все с возрастающей силой... Разве все переберешь? Художник должен увлекаться многим, отзываться на разное, что-то отбрасывать, что-то оставлять в себе... Вот вы говорите — Хемингуэй... Я уже слышал это имя и прочту обязательно...
Горькое признание: мы, театральные люди, живем в Москве так разобщенно, такими отдельными монастырями, что часто питаемся в сведениях друг о друге легендами. Мне легче снестись с находящимся в Италии Гордоном Крэгом, чем с живущим на соседней улице Станиславским...
Был в моей жизни один такой перекресток, когда я чуть не стал музыкантом-скрипачом. В середине девяностых годов при Московском университете существовал великолепный студенческий оркестр, целые большие концерты давали. Я учился на юридическом факультете, но страстно любил музыку. Пожалуй, даже больше, чем театр. Увлекался скрипкой. И вот объявили конкурс на вакансию в этом оркестре на место второй скрипки. Я это место во сне видел. Упорно готовился, забросил римское право и... провалился на конкурсе. Решил с горя податься в актеры. Приняли. Я вот теперь думаю: был бы я второй скрипкой, служил бы в оркестрике театра под руководством Бендерского или Равенского, их бы ругали, как меня сейчас, а я бы пиликал себе и посмеивался...
Если бы у меня было свободное время, я хотел бы переписать некоторые мои статьи из книги «О театре», чтобы, не изменяя их по существу, освободить их от модной в начале века модернистской терминологии. Сейчас она только мешает правильно оценить их. Вот хорошо бы немножко поболеть и, медленно выздоравливая, на досуге этим заняться. А то до сих пор мне приходится терпеть беды от некоторых своих старомодных и неудачных формулировок.
В моей жизни перед каждым новым подъемом были трагические паузы, полные мучительных раздумий и сомнений, иногда почти на грани отчаяния. Только два (и важнейших!) решения своей жизни я принял, не колеблясь: это когда после окончания филармонии отверг выгодные и лестные предложения двух крупных провинциальных антрепренеров и пошел на маленькое жалованье в открывающийся Художественный театр (с обывательской точки зрения это был риск!) и еще когда я сразу понял значение Октября и ринулся в революцию. К принятию этих решений я был подготовлен всем своим внутренним развитием, и они мне дались естественно и просто. Но никогда не забуду своей душевной бури осенью и в начале зимы
1905 года.
В стране сильнейшее революционное брожение, а мы готовим к открытию Студию на Поварской. Скандальная премьера «Детей солнца» в Художественном театре. Станиславский принимает решение не открывать студию. Я у разбитого корыта. По предложению Константина Сергеевича, я некоторое время снова играю Треплева в возобновленной «Чайке» в Художественном театре. Это было чем-то вроде моста к моему возможному возвращению в МХТ, на что К. С. мне намекал. Но были и препятствия: Владимир Иванович относился к этому более чем прохладно. А я тогда и сам не знал, чего я хочу, совершенно потерял ориентировку. Но мне не пришлось самому ничего решать, все за меня решил факт полного отсутствия у меня товарищеского контакта с моими бывшими коллегами — участниками «Чайки»,— с которыми я встречался, когда шел спектакль, за кулисами: меня раздражали они, я казался странным им. Московское вооруженное восстание. Я жил в районе, покрытом баррикадами. Никогда не забуду страшных вечатлений тех дней: темную Москву, израненную Пресню. Трагедия разбитой революции тогда как-то заслонила все личное, и боль от смерти неродившегося театра прошла очень быстро. Вскоре я искренне перестал жалеть об этом. А затем поездка в Петербург, новые встречи и знакомства, попытка возродить в Тифлисе Товарищество Новой драмы и, наконец, неожиданное письмо от Комиссаржевской...
Министерство двора, которому до революции были подчинены императорские театры, несколько раз под влиянием охранки пыталось удалить меня из Александрийского и Мариинского театров. Меня спасло только безграничное влияние А. Я. Головина на директора императорских театров Теляковского.
В моей биографии, написанной Н. Д. Волковым подробно и точно, есть все же пробелы. Так, например, там не отмечен такой важный момент моего созревания, как знакомство в Италии, в мае в 1902 году, с ленинской «Искрой» и с только что вышедшей за границей книжкой Ленина «Что делать?». Я приехал в Милан, чтобы смотреть соборы и музеи, и целыми днями шлялся по улицам, любуясь итальянской толпой, а вернувшись в гостиницу, утыкался в нелегальные газеты и брошюры и читал, читал без конца. Тогда уже в воздухе носилось что-то о разногласиях Ленина с Плехановым и знакомые студенты-эмигранты, захлебываясь, спорили о тактике РСДРП. Термины «большевик» и «меньшевик» еще не существовали, если не ошибаюсь, но дифференциация уже чувствовалась...
Хотите, я вам скажу, что разделило резкой чертой художников, когда пришла революция. Наивно и поверхностно думать, что все эмигрировавшие писатели, музыканты, художники думали только о своих потерянных банковских вкладах или реквизированных дачах, да у большинства их и не было. Шаляпин был корыстолюбив. Все это знают, но и для него не это было главным. Главное то, что Горький, Маяковский, Брюсов и многие другие (и я в том числе) сразу поняли, что революция — это не только разрушение, но и созидание. А те, кто думал, что революция — это только разрушение, прокляли ее. Мы с Маяковским принадлежим к разным поколениям, но для нас обоих революция явилась вторым рождением.
Когда у меня происходит очередной крах, я теперь уже знаю: надо спокойно и терпеливо ждать чуда — спасительной дружеской руки. После закрытия Студии на Поварской — письмо от Комиссаржевской, после ухода от нее — тоже сначала тупик, и вдруг внушенное Головиным письмо Теляковского, и сейчас, после закрытия ГосТИМа,— звонок Константина Сергеевича...
Когда вы осенью видите дерево, теряющее листву, оно вам кажется умирающим. Но оно не умирает, а готовится к своему обновлению и будущему расцвету. Не бывает деревьев, цветущих круглый год, и не бывает художников, не испытывающих кризиса, упадка, сомнений. Но что вы скажете про садовников, которые будут осенью рубить опадающие деревья? Неужели нельзя к художникам относиться так же терпеливо и бережно, как мы относимся к деревьям?
Мне всю жизнь везло на учителей. Станиславский, Федотов, Немирович-Данченко, мастера старого Малого театра, Чехов, Горький, Далматов, Варламов, Савина, Головин, Блок, Комиссаржевская — у всех у них учился, как умел. Могу, пожалуй, еще прибавить десяток имен. Никогда не станешь сам мастером, если не сумел стать учеником. Я был жаден и любопытен. И вам посоветую одно: будьте любопытны и благодарны, научитесь удивляться и восхищаться!
У нас самый лучший зритель в мире. Я это утверждаю! И читатель у нас самый лучший! Не сравнить с западными странами и с прежней средней русской интеллигенцией тоже. Поверите ли вы, что в дни моей юности, по общему мнению, Боборыкин, например, считался более «серьезным» писателем, чем Бальзак? Бальзак казался чем-то вроде Поля де Кока. Шпильгагена ценили больше, чем Стендаля. Чехову ставили в пример Шеллера-Михайлова, и до своей смерти, которая поразила читающую Россию, он в широчайших кругах котировался наравне с Потапенко. Немудрено, что от этого повального безвкусия мы шарахались в декадентщину.
Я считаю, что время пороха в искусстве еще не прошло, а порох сыреет от слез. Вот почему я не люблю сентиментального искусства.
Основной закон биомеханики очень прост: в каждом нашем движении участвует все тело. Остальное — разработка, упражнения, этюды. Скажите, что здесь такого, что могло возмущать, вызывать протесты, казаться еретическим, неприемлемым? Вероятно, это мое личное свойство — даже самые простые вещи, утверждаемые мною, почему-то кажутся парадоксами или ересью, за которую следует жечь на костре. Я уверен, что если я завтра заявлю, что Волга впадает в Каспийское море, то послезавтра от меня начнут требовать признания моих ошибок, которые в этом утверждении содержались.
Художнику совсем не обязательно знать про себя, кто он — реалист или романтик. Да ведь и под этими понятиями все разумеют разное. Надо нести в искусство свое видение мира, каково бы оно ни было, а после тебя поставят на определенную полочку, да еще иногда переставят несколько раз с одной на другую. У нас часто этими определениями не столько объясняют, сколько одаривают. Когда про меня как-то написали, что-де я поставил наконец реалистический спектакль, то я обрадовался, правда, не потому, что это верно, а потому, что понимал, что мне хотели сказать приятное. Ну, вроде как: был генералом от кавалерии, а произвели в полные генералы...
Когда я спорил с рапмовцами о том, является ли «Весна священная» Игоря Стравинского великим произведением, то мне всегда казалось, что они глубоко неискренни в том, что эта удивительная музыка им чужда и непонятна.
Кто говорит, что я старик? Мне хочется пойти в Совнарком и сказать: «Раз я вернулся после лечения из-за границы не в свинцовом гробу — воскурите мне сегодня фимиам, который приберегается для некрологов». Маяковский в некрологе Хлебникову писал: «Хлеб живым! Бумагу живым!» Я бы добавил: и уважение живым!
Пикассо обещал мне быть художником нашего «Гамлета», когда у нас до него дойдут руки... Когда дойдут руки!.. Я всю жизнь мечтаю о «Гамлете» и откладываю эту работу то по одной причине, то по другой. Откровенно говоря, я уже в своем воображении поставил нескольких «Гамлетов», да вы знаете, я вам рассказывал... Но сейчас я уже решил окончательно: «Гамлет» будет нашим первым спектаклем в новом здании. Откроемся «Гамлетом»! Откроем новый театр лучшей пьесой мира! Хорошее предзнаменование!
Считается, что полюсами театральной Москвы являются мой театр и МХТ. Я согласен быть одним из полюсов, но если искать второй, то, конечно, это Камерный театр. Нет более противоположного и чуждого мне театра, чем Камерный. У МХТ одно время было четыре студии. Я могу дать разгуляться воображению и допустить, что мой театр — тоже одна из студий МХТ, но только, конечно, не пятая, а, скажем, учтя дистанцию, нас отделяющую, 255-я. Ведь я тоже ученик Станиславского и вышел из этой альма матер. Я могу найти мостки между моим театром и МХТ и даже Малым, но между нами и Камерным театром — пропасть. Это только с точки зрения гидов Интуриста, Мейерхольд и Таиров стоят рядом. Впрочем, они готовы тут же поставить и Василия Блаженного. Но я скорее согласен быть соседом с Василием Блаженным, чем с Таировым. 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
 Я хотел бы суметь рассказать, как однажды парадоксально и выразительно В. Э. реагировал на сообщение о поданном актером X. заявлении об уходе из театра. «Пусть уходит,— сказал Мейерхольд, после того как выслушал ассистентов, объяснявших ему, какие сразу возникнут трудности: ушедшего было нелегко заменить.— Пусть уходит...— Он приподнял правую полу пиджака.— Сколько уж их прошло тут...» — И он загребающими движениями левой ладони показал, сколько их проходило через него. Он замолчал, а левая рука все еще металась над полой пиджака.
Я хотел бы суметь рассказать, как однажды парадоксально и выразительно В. Э. реагировал на сообщение о поданном актером X. заявлении об уходе из театра. «Пусть уходит,— сказал Мейерхольд, после того как выслушал ассистентов, объяснявших ему, какие сразу возникнут трудности: ушедшего было нелегко заменить.— Пусть уходит...— Он приподнял правую полу пиджака.— Сколько уж их прошло тут...» — И он загребающими движениями левой ладони показал, сколько их проходило через него. Он замолчал, а левая рука все еще металась над полой пиджака. Я начал эту главу с имени ученицы, друга и жены В. Э. Мейерхольда — Зинаиды Николаевны Райх. Восемнадцать лет она была его верным спутником, и, говоря о нем, нельзя не рассказать и о ней.
Я начал эту главу с имени ученицы, друга и жены В. Э. Мейерхольда — Зинаиды Николаевны Райх. Восемнадцать лет она была его верным спутником, и, говоря о нем, нельзя не рассказать и о ней.
 К юбилею Павлова я послал ему телеграмму, в которой несколько легкомысленно написал, что приветствую в его лице человека, который наконец разделался с такой таинственной и темной штукой, как «душа». В ответ я получил от Павлова письмо, в котором он учтиво поблагодарил меня за поздравление, но заметил: «А что касается души, то не будем торопиться и подождем немного, прежде чем что-либо утверждать...» Мне хочется сказать то же самое всем, кто думает, что Станиславскому или мне известны все истины о тайнах творческого труда актера. Проследите за работой Константина Сергеевича, и вы увидите, что он все время вносит коррективы в свою «систему». Я когда-то утверждал, что человек — это «химико-физическая лаборатория». Конечно, это очень примитивно. В моей биомеханике я смог определить всего двенадцать-тринадцать правил тренажа актера, но, шлифуя ее, я, может, оставлю не больше восьми.
К юбилею Павлова я послал ему телеграмму, в которой несколько легкомысленно написал, что приветствую в его лице человека, который наконец разделался с такой таинственной и темной штукой, как «душа». В ответ я получил от Павлова письмо, в котором он учтиво поблагодарил меня за поздравление, но заметил: «А что касается души, то не будем торопиться и подождем немного, прежде чем что-либо утверждать...» Мне хочется сказать то же самое всем, кто думает, что Станиславскому или мне известны все истины о тайнах творческого труда актера. Проследите за работой Константина Сергеевича, и вы увидите, что он все время вносит коррективы в свою «систему». Я когда-то утверждал, что человек — это «химико-физическая лаборатория». Конечно, это очень примитивно. В моей биомеханике я смог определить всего двенадцать-тринадцать правил тренажа актера, но, шлифуя ее, я, может, оставлю не больше восьми.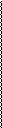 Для меня было личной драмой то, что Станиславский закрыл в 1905 году Студию на Поварской, но, в сущности, он был прав. По свойственным мне торопливости и безоглядности я стремился там соединить в одно самые разнородные элементы: символистскую драматургию, художников-стилизаторов и актерскую молодежь, воспитанную по школе раннего Художественного театра. Каковы бы ни были задачи, это все вместе не соединялось и, грубо говоря, напоминало басню «Лебедь, рак и щука». Станиславский, с его чутьем и вкусом, понял это, а для меня, когда я опомнился от горечи неудачи, это стало уроком: сначала надо воспитать нового актера, а уж потом ставить перед ним новые задачи. Такой же вывод сделал и Станиславский, в сознании которого тогда уже зрели черты его «системы» в ее первой редакции.
Для меня было личной драмой то, что Станиславский закрыл в 1905 году Студию на Поварской, но, в сущности, он был прав. По свойственным мне торопливости и безоглядности я стремился там соединить в одно самые разнородные элементы: символистскую драматургию, художников-стилизаторов и актерскую молодежь, воспитанную по школе раннего Художественного театра. Каковы бы ни были задачи, это все вместе не соединялось и, грубо говоря, напоминало басню «Лебедь, рак и щука». Станиславский, с его чутьем и вкусом, понял это, а для меня, когда я опомнился от горечи неудачи, это стало уроком: сначала надо воспитать нового актера, а уж потом ставить перед ним новые задачи. Такой же вывод сделал и Станиславский, в сознании которого тогда уже зрели черты его «системы» в ее первой редакции. Бойтесь с педантами говорить метафорами! Они все принимают буквально и потом не дают вам покоя. Когда-то я сказал, что слова — это узор на канве движения. Это была обычная метафора, каких рассыпаешь много, говоря с учениками. Но педанты поняли это буквально и вот уже два десятка лет научно опровергают мой легкокрылый афоризм. Так, на Гордона Крэга давно уже вешают всех собак за то, что он сравнил актеров с марионетками. Гёте (которого я, кстати, не люблю) сказал однажды, что актеры должны уподобиться канатным плясунам. Но разве это значит, что он советовал исполнителю Гамлета ходить по проволоке? Конечно, нет! Просто он хотел посоветовать на сцене добиваться такой же безошибочной точности в каждом движении.
Бойтесь с педантами говорить метафорами! Они все принимают буквально и потом не дают вам покоя. Когда-то я сказал, что слова — это узор на канве движения. Это была обычная метафора, каких рассыпаешь много, говоря с учениками. Но педанты поняли это буквально и вот уже два десятка лет научно опровергают мой легкокрылый афоризм. Так, на Гордона Крэга давно уже вешают всех собак за то, что он сравнил актеров с марионетками. Гёте (которого я, кстати, не люблю) сказал однажды, что актеры должны уподобиться канатным плясунам. Но разве это значит, что он советовал исполнителю Гамлета ходить по проволоке? Конечно, нет! Просто он хотел посоветовать на сцене добиваться такой же безошибочной точности в каждом движении.