
|
|
ОБ УСПЕХАХ, ОШИБКАХ И ПРОЧЕМ 8 глава«А? Что??» с двумя вопросительными знаками — это его привычная поговорка. Она даже попала в сцену вранья Хлестакова. Сперва меня удивляла привычка Мейерхольда искать одобрения окружающих тут же на репетиции. «Ну, не все ли ему равно, что ему скажет X или У или что скажу я? — думалось мне.— Он мастер с огромным опытом, с блестящим вкусом, задолго до премьеры видящий, как явь, им же выдуманный спектакль. Что мы все можем ему сказать, чего бы он сам не ждал и не предвидел?..» Потом я понял, что В. Э. важно было не то, что мы скажем; ему просто-напросто было нужно наше одобрение, как самому гордому и взыскательному артисту нужны аплодисменты. Я читал в воспоминаниях о С. Рахманинове, как он был расстроен, когда ему в каком-то маленьком техасском городке после концерта слабо аплодировали. Казалось бы, что ему, прославленному виртуозу, в бурных или вялых хлопках техасских скотоводов? Но он нуждался не в оценке своего исполнения, а в той отдаче, которая одинаково необходима пианисту, жонглеру, драматическому актеру и читающему с эстрады поэту. Молодой МХТ пробовал в свое время запрещать аплодисменты, и не в том дело, удержался этот обычай или нет, а в том, что почтительная, полная признательности и уважения тишина, наступавшая в Художественном театре после того, как медленно задвигался серо-зеленоватый занавес, тишина, которая была не просто молчанием, а паузой, наполненной содержанием, эта тишина стоила, конечно, самых бурных аплодисментов. На многих репетиция Мейерхольда присутствующие аплодировали. Большей частью аплодисменты сопровождали его собственные показы, но иногда аплодировали и актерам-исполнителям, и тогда В. Э. всегда присоединялся к аплодисментам. Были случаи, когда начинал аплодировать первым он сам. Аплодисменты придавали репетициям праздничный характер. Это не было искусственным, наоборот, по моим наблюдениям, это была естественнейшая атмосфера, всегда и повсюду образовывавшаяся вокруг Мейерхольда. Он приносил ее с собой, она становилась привычной; поэтому так болезненно труппа относилась к «закрытым» репетициям, когда в 1937 году они вошли в рабочую практику театра. Но эти «закрытые» репетиции, по-моему, не любил и сам Мейерхольд: шел на них по необходимости, тяготился ими. Они были следствием общей ненормальной ситуации, сложившейся в театре в последний год его существования. Бывали, конечно, и трудные, и неудачные, и даже драматичные репетиции. Но они как-то не запомнились, кроме одной, о которой я еще расскажу. Они не были характерны для работавшего Мейерхольда: они — те исключения, которые подтверждают правило. В перерыве репетиции Мейерхольд обычно, когда он доволен собой, не может сразу перейти к другим делам, хотя его давно уже ждет в директорском кабинете главный бухгалтер с толстой папкой смет и счетов. Но он, взяв меня под руку, ходит со мной вдоль длинного фойе, вспоминая и комментируя все сделанное сегодня. Иногда его тянет к обобщениям... — Вот запишите мою формулу для нашего будущего Я говорю В. Э., что для того, чтобы это определение было всем понятно, нужно сначала определить, что такое мелодия и что такое гармония. Не все это знают. — Да, да... Я и забыл, что у нас режиссеров учат не У Мейерхольда есть свои привычные рабочие словечки. Часто это музыкальные термины: крещендо, стаккато, маэстозо, глиссандо, легато, рубато и др. Их у нас в театре прекрасно знают не только оркестранты, но и актеры. Не знать — значит не понимать режиссерских указаний. Мейерхольд может, делая замечания, сказать актеру: — У вас нет (или недостаточно) легативности!.. И все ясно. Иногда, увлекшись, он делает уже более сложные указания, крича из темного зала: — Васильев, не так! Дайте престо фуриозо! или — ан Актер смотрит на него в недоумении, и тогда В. Э. объясняет. У него эти термины возникают естественно: он думает ими, с детства отлично зная музыку. Они в самом деле очень удобны. Одно слово заменяет несколько фраз. Но есть еще у В. Э. и свои любимые слова не из музыкальной терминологии, например «экзижерация». За всю свою жизнь я слышал это слово только от Мейерхольда. Он * любит и часто употребляет странные глаголы: «сейсмо-графировать», «контактоваться». Он возвращается к своей «формуле»... — Я понял, что такое искусство мизансцены, когда научился гармонизовать минансценами мелодическую ткань спектакля, то есть игру актеров. Это очень важно. : Об этом можно целую работу написать... (Запись -от 23 января 1937 года.) Бухгалтер ходит за нами на почтительном расстоянии, молчаливо напоминая о своем присутствии. Но В. Э. все еще не может оторваться от впечатлений репетиции. Он просит меня подождать, пока он подпишет какие-то бумаги, и вскоре разговор продолжается у него в кабинете до звонка к окончанию перерыва... Перерыв и отдых посреди репетиции всегда были очень короткими, если В. Э. не отрывали для какого-нибудь не терпящего отлагательства дела. Как правило, он разрешал обращаться к себе в рабочее время только с делами, связанными со строительством нового здания театра. Очень часто он вообще не делал никакого перерыва. Но вот небольшой перерыв кончается, и Мейерхольд снова в зале. И снова он энергично и неутомимо работает: делает замечания из глубины зала или от режиссерского столика, смотрит из разных точек и все чаще и чаще по мере того, как репетиция разгорается, вбегает на сцену и показывает... Сейчас мне это самому кажется невероятным, хотя я был этому свидетелем: однажды, во время обыкновенной дневной репетиции (8 апреля 1937 года), Мейерхольд 61 раз поднимался на сцену для того, чтобы что-то показать исполнителям. Краткие замечания он делал из зала, 18 раз он поднялся на сцену до перерыва и 43 раз после десятиминутного отдыха. За все это время он ни разу не присел. Предо мной сейчас лежит моя записная книжка, где я черточкой отмечал его каждый вбег по трапу. Это была одна из тех репетиций, когда он снимал пид
Вот какая феноменальная энергия была у этого человека.
Он поднимался на сцену не для того, чтобы что-то сказать. Каждый раз он показывал, то есть играл целый кусок за одного из тридцати участников массовки. Режиссеры-педанты, которые хорошо знают, как нужно ставить спектакль и работать с актером, но не умеют ни ставить, ни работать, слушая рассказы о репетициях Мейерхольда или попадая случайно на его репетицию, заявляли, что так много и щедро показывать методологически неправильно, как будто творческий процесс режиссера-художника может быть обуздан подобной школярской регламентацией. И при чем здесь «метод»? Не «метод», а неповторимый, сумасшедший, все возбуждающий и все заражающий творческий темперамент. Вряд ли возможно подражать его «показам», но научиться так тратиться в работе, так отдавать себя не помешало бы многим. Таких репетиций у Мейерхольда было немало, но особенно мне запомнилась репетиция одной из любимейших сцен его в «Борисе Годунове» — девятой — «Дом Шуйского». РЕЖИССЕР - АКТЕР Это было 17 мая 1936 года на одной из самых первых репетиций «Бориса Годунова».
Казалось, ничто не предвещало бури, которая разразилась. В. Э. не снимал перед началом пиджак, он даже опоздал на несколько минут, что с ним случалось очень редко. На сцене полукругом стоят стулья. В зале темно. Репетиция намечена «застольная». Все сидят. Выгородки еще нет. Рядом с Мейерхольдом — ассистенты и поэт В. А. Пяст. Сначала мирно читают сцену. Пяст кропотливо разбирает технику пятистопного ямба. Мейерхольд, надев очки, следит за текстом по книжке. Среди участников сцены — Л. Н. Свердлин, репетирующий роль боярина Пушкина. Не совсем понятно, почему именно ему поручена эта роль. Он один из ведущих актеров театра, великолепно играющий Аркашку в «Лесе», Гуго Нунбаха во «Вступлении», часто и успешно снимающийся в кино, а роль Пушкина совсем небольшая. Правда, там есть монолог, но тоже не очень большой. Спокойно течет репетиция. Прочли сцену один раз. Слово берет Мейерхольд. Он говорит, что ненавидит «боярские пьесы», говорит о «психологических толщинках», в которых уже с первой читки почувствовали себя исполнители: «Вы уже все себя видите в парче и с бородами...» Он говорит, что нужно омолодить всех действующих лиц, взглянуть наивными глазами на живых людей той эпохи, он говорит о «Пушкине без посредников», без традиционных наслоений, без пуш-. кинистов, о Пушкине, как бы прочтенном в первый раз... — Все в этой пьесе воины, а не приказные бояре с бо Неожиданно, повернувшись к ассистенту, требует, чтобы тот записал: «Договориться с манежем, чтобы вся труппа ежедневно занималась верховой ездой!» — А иначе мы «Бориса» не сыграем!.. Ассистент делает вид, что записывает. Он думает, что это обычная гипербола мастера, а впрочем, кто его знает? Среди актеров оживление. Верховая езда! Что он еще придумает? Впрочем, если это и гипербола, то, надо признаться, очень яркая. Мы слышим это уже с первых репетиций: «Не бояре в шубах, а военные! Минуту назад с коней! Все молодые!..» Он часто повторяет это, но живых лошадей еще пока не требует... Мейерхольд увлеченно, с точными, яркими, живописными деталями «раскрывает ремарку», как он любит выражаться, то есть рассказывает нам всю эту сцену, ту самую, которую мы только что читали. Но разве это та сцена?
Вся эта картина должна быть сыграна на протяжении двадцати четырех пушкинских строк. Возможно ли это? Это будет, если так видит ее Мейерхольд. Сложная, трудная сцена Шуйского и Пушкина. Оказывается, здесь что ни фраза, то поворот действия. Так вот что в ней происходит. А нам-то она казалась риторичной. И, наконец, монолог Пушкина... Свердлин начинает его читать, но очень скоро Мейерхольд его прерывает... Да нет же! Это же Мамонт Дальский! ? ? ?
Так вот, значит, что такое этот Пушкин?! Свердлин в затруднении. «Мамонт Дальский» — это, конечно, новая гипербола В. Э., но откуда же вдруг сразу взять на репетиции темперамент и страсти такого накала? Но Мейерхольд не настаивает, чтобы сразу... Он, как и все, знает, что Свердлин не быстро воспламеняется, но сильно и жарко горит. Недаром сцена Нунбаха всегда заканчивалась овацией. Тогда ведь тоже казалось, что непосильно трудно выполнить задание Мейерхольда, повторить его гениальный показ. Мейерхольд ярко и точно объясняет сквозную мысль монолога, как она течет, по каким уступам несется и падает. И он начинает его читать, сначала по книжке, не снимая очков, потом очки слетают, он уже не смотрит в книжку, и ему кто-то суфлирует, потом весь текст кончается (там только тридцать четыре строки), но Мейерхольд, уже сам импровизируя текст безошибочным пятистопным ямбом, показывает нам, как бы сыграл эту сцену Мамонт Дальский. Потрясающе! Да, вот это накал!.. Но он не кончает. Он продолжает играть, импровизируя ямбы. Он смахивает со стола стакан, и никто не решается его поднять... Затаив дыхание, мы следим за гениальной импровизацией. А она продолжается. Он уже стоит на столе. Мы и не заметили, как он вскочил. Это Мейерхольд? Это Мамонт Дальский? Нет, это остервенелый, пьяный, исступленный Афанасий Михайлович Пушкин, живой человек XVII века, со своей обидой, со своей болью, со своей неуемной злобой на царя Бориса... нет, на Борьку Годунова, узурпатора и злодея... Я смотрю на Свердлина. Он бледен.- Я смотрю на 3. Н. Райх; наши взгляды встречаются — у нее в глазах страх за близкого человека. Нельзя же так! Ведь ему за шестьдесят! Такой накал темперамента! Такое неистовство страстей! Такое исступление! И еще, и еще... Это уже почти страшно. И неожиданно он останавливается, легко спрыгивает со стола и поворачивается к Свердлину: «Ясно?» Свердлин молча разводит руками. Все молчат. То, что мы видели сейчас, можно видеть один раз в жизни. Все боятся пошевельнуться. Только после долгой паузы раздаются аплодисменты. А Мейерхольд берет со стола портфель и невозмутимо объявляет: «Перерыв десять минут!» — и уходит переменить рубашку. Та, что на нем, совершенно мокрая. Через десять минут репетиция продолжается... Не знаю, сумел ли я описать эту замечательную репетицию, но память о ней живет во мне наравне с самыми глубокими потрясениями, испытанными в театре. Мог ли Свердлин повторить этот «показ», да и нужно ли было его повторять? В монологе Пушкина тридцать четыре строки, а Мейерхольд наимпровизировал, наверное, добрых полтораста. Он сам бы никогда не стал требовать повторения. Но он дал перспективу образа, его эмоциональные горизонты, его потолок. А в спектакль может войти и четверть этого, и, может быть, даже этого будет много. Я еще не работал в театре, а пробрался потихоньку с помощью знакомого актера, очень боясь, что меня заметят и попросят уйти, в глубину неуютного зала театра бывш. Зона, когда Мейерхольд ставил финальную сцену «Последнего решительного» Вишневского и показывал Боголюбову, как умирает раненный в бою матрос. Боголюбов потом замечательно играл эту сцену (те, кто присутствовал на генеральной репетиции спектакля, помнят, как сидевшие рядом Мейерхольд и Вишневский плакали в этом месте), но показ Мейерхольда был незабываем. И совершенно мелочной кажется дискуссия, сумел ли актер перекрыть замечательный режиссерский показ или нет. Ведь зрители видели Мейерхольда только через Боголюбова, да и режиссер, показывая актеру, как эту сцену надо играть, уже внутренним оком видел ее в материале, в индивидуальности Боголюбова, как скульптор видит статую в бронзе или мраморе. Вероятно, если бы матроса играл Гарин, Мейерхольд и показал бы ему это иначе. Несомненно, Мейерхольд своими «показами» ставил перед актерами трудные задачи. Но почему режиссерские задачи должны быть легкими? Здесь уместно напомнить слова К. С. Станиславского: «Лучше поставить трудную задачу и добиться в ней половины успеха, чем рассчитать точно свои силы и в меру их сузить задачу. В этом я расхожусь с Гете: он утверждал обратное». И в этом тоже Мейерхольд был истинным учеником Станиславского. В 1925 году Мейерхольд работал над пьесой А. Фай-■ ко «Учитель Бубус». До премьеры уже оставались считанные дни, когда из театра ушел Ильинский, репетировавший главную роль (после этого он еще дважды возвращался и уходил). Роль Бубуса была передана Б. Вельскому. Его начали «вводить» ассистенты. Как-то Мейерхольд зашел на репетицию, посмотрел на этот «ввод» и... начал репетировать сам, все переставляя применительно к индивидуальности нового исполнителя. За восемь дней он переставил весь уже готовый спектакль. Индивидуальность Ильинского требовала одних постановочных решений, индивидуальность Вельского потребовала других.
Я ни разу не видел в мейерхольдовском «Лесе» такого Несчастливцева, каким был Несчастливцев — Мейерхольд на репетициях по возобновлению спектакля, я даже не видел такой Лидочки Муромской в «Свадьбе Кречинско-го», какой Лидочкой был Мейерхольд — седой старик, с длинным носом и хриплым голосом,— но и в этих ролях, на которые не нашлось актеров, равных по дарованию Боголюбову, Гарину, Ильинскому, Бабановой, был пламенный отсвет его дарования, его внутреннего роста, его силы. Сам Мейерхольд, кстати, никогда не рекомендовал «показ» как единственный прием в работе режиссера с актером. Он всегда отличал технику «показа» и технику актерского исполнения в спектакле. На одной из репетиций «Ревизора» при возобновлении спектакля, помню, он кричал из зала актеру Мологину, игравшему Доб-чинского: — Вы не играете, а показываете мне, как надо играть Добчинского! Это не актерское исполнение, а режиссерский показ!.. Не режиссируйте, а играйте!.. Но сам он блестяще, гениально «показывал». Это было свойством его индивидуальности, одаренной необычайной фантазией, его страстного, нетерпеливого темперамента, его способности одновременно с «что» всегда видеть «как» — не метод, не правило, а неповторимая особенность его дарования, такая же личная, как легендарное шаляпинское чувство ритма. Неподдельность, эмоциональная первичность этих показов импровизаций несомненна. Несомненна и подлинность «прожитого» в каждом из этих эскизов, которые творились на сцене в таком щедром изобилии. Эскизы не перестают быть эскизами оттого, что иногда они нравятся нам едва ли не больше, чем их будущее воплощение на законченном полотне, как гениальные эскизы Леонардо, как эскизы А. Иванова или — пример из другой области — как эскизы Сергея Эйзенштейна, недавно опубликованные. Существует специальное исследование о рисунках Пушкина на полях его черновиков; причем они исследуются не только, так сказать, функционально, в той мере, в которой они помогали восстановить создание стихотворного наброска, но и эстетически, как случайные, но самостоятельные и стилистически совершенные произведения графики. Так же можно было изучать эскизы-показы Мейерхольда. В них были преувеличенность и смелость наброска, его близость к промелькнувшему в видении художника образу и та удивительная идентичность замысла и воплощения, которой иногда не хватало в готовой картине-спектакле, если сравнивать создаваемые актерами образы с эскизами-показами Мейерхольда. Многие из них запомнились как законченные актерские образы. Они заслуживают быть описанными. Особенным качеством этих актерских созданий Мейерхольда был темперамент. Иногда это была открытая, бурлящая эмоция, как у Гуго Нунбаха, Афанасия Пушкина или деревенской бабы-кликуши в сцене крестного хода в «Наташе» (называю первое, что вспомнилось из длинного ряда такого рода показов), иногда это был кипящий темперамент, выразительно закованный во внешнюю статику, как у графа Варвиля, Кречинского, Алоизия Пфэка. Мейерхольд очень любил острое сочетание внутренней динамики с внешней статикой. К сожалению, подобный сложный рисунок реже всего удавался исполнителям, если это не были Ю. М. Юрьев или Н. И. Боголюбов, актер, которого В. Э. осбенно ценил за внутренний накал при внешней сдержанности. Мейерхольду равно удавались острокомедийные и трагические образы — его актерская палитра была богата всеми красками, но я помню также и нежный рисунок Маргерит в «Даме», мягкий лиризм Чацкого, добродушие Муромского, простоватость Луки.
Эти секунды прострации всегда казались мне таинственными. Все упрекавшие его (заглазно) в техницизме и деланности — если бы они видели В. Э. в эти секунды интенсивнейшей внутренней жизни в разгаре работы! Однажды у себя дома В. Э. вспоминал о том, как замечательно Станиславский «показывал» на репетициях в первые годы существования МХТ. Рассказ длился долго, и В. Э. увлекся. Зинаида Николаевна, настроенная в этот день капризно, прервав его, заметила, что вот теперь, как говорят, Станиславский считает показ режиссера актеру ненужным и вредным... Мейерхольд недовольно остановился, помолчал, а потом неожиданно сказал: — Брось, Зина! Он так говорит теперь, потому что у него нет больше сил показывать так, как раньше. Вы думаете, он сам отказался от актерства? Ему врачи запретили. Вот запретят мне — и я тоже что-нибудь такое выдумаю...— и вдруг, испугавшись, что в сказанном им мы можем почувствовать что-то неуважительное к Станиславскому, быстро превратил весь разговор, как это он часто делал, в шутку. Режиссировать для Мейерхольда тоже значило играть. Может быть, он выбрал режиссуру не только потому, что стремился создавать и определять своей волей художественно целое, то есть спектакль, но и потому, что, режиссируя, он мог играть бесконечно больше, чем если бы оставался просто актером. И не только больше, но и шире. На репетиционных «показах» ему ни в чем не мешали его личные физические данные — он играл роли всех амплуа; он влюблялся, отвергал, умирал, обманывал, притворялся, попадал впросак; был игроком, опустившимся архитектором, разорившимся богачом, блестящей куртизанкой, наивной обманутой девицей, бурбоном, щеголем, Фамусовым, Чацким, Молчалиным, Хлестаковым, Гамлетом, Годуновым и Шуйским, матросом-пограничником, Павлом Корчагиным. Был ли Мейерхольд крупным актером? Свидетельства современников противоречивы. В начале его творческого пути рецензенты не были к нему доброжелательны. Доходило дело до полного отрицания в нем актерского таланта. Но вспомним, что это утверждали те, кто начисто отрицал наличие актерских талантов в труппе молодого МХТ. Несомненно, что в Мейерхольде больше, чем в ком бы то • ни было из его сотоварищей, было заметно то, что может быть названо новым качеством актерской игры, что на первый взгляд казалась «неактерским».
В начале века отрицателей в Мейерхольде актерского таланта было гораздо больше, чем поклонников, но среди последних были А. П. Чехов, А. М. Горький, В. И. Немирович-Данченко, К. С. Станиславский. Его партнерша по спектаклям молодого МХТ М. Ф. Андреева, упрямо не признававшая достижения Мейерхольда как режиссера-новатора, в феврале 1937 года на Горьковской конференции ВТО, отвечая на заданный ей вопрос о том, как А. М. Горький и она оценивали работу Мейерхольда в театре, сказала: «...Я являюсь большой поклонницей драматического таланта Мейерхольда. Я не знаю ни одной роли, которую бы он сыграл плохо. Возьмите Василия Шуйского в «Федоре» — потрясающе, замечательно. Иван Грозный — замечательно. Треплев в «Чайке», совершенно из другой оперы,— замечательно. Барон Тузенбах в «Трех сестрах» — лучше нельзя. Я потом играла с Качаловым, так, извините меня, Мейерхольд, несмотря на свои убийственные внешние данные — лицо топором, скрипучий голос,— играл лучше Качалова. Затем в Иоганнесе Фокерате он был великолепен. Как он играл Мальволио в «Двенадцатой ночи»! Я перевидела массу интересных актеров, которые играли эту роль, но ничего подобного не видела. Он играл принца Арагонского в «Шейлоке». Роли никакой нет, короче воробьиного носа, а как это у него выходило? Настоящий Дон Кихот, настоящий испанец. Он говорил свой монолог так, что сидишь и слушаешь его рот раскрыв. Ни одной роли не знаю, которую бы Мейерхольд сыграл плохо,— это был замечательный актер. Алексей Максимович был о нем тоже такого высокого мнения».
Больше всего ему приходилось играть в «годы странствий» — в те провинциальные сезоны, которые выпали ему на долю между московским и петербургским периодами его биографии. В период Театра-студии на Поварской он снова играл в Художественном театре своего любимого Треплева в «Чайке» и Станиславский заговаривал с ним о возвращении в Художественный театр. В Театре Комис-саржевской и в Александринском Мейерхольд играл уже немного: постепенно режиссура захватила его всего. В. П. Веригина в своих замечательных воспоминаниях пишет о Мейерхольде-актере: «Мейерхольд сам совершенно замечательно играл Пьеро (в «Балаганчике» Блока.— А. Г.), доводя роль до жуткой серьезности и подлинности». Веригина, проработавшая несколько лет с Мейерхольдом (Театр-студия на Поварской, Театр Комиссаржевской, театр в Териоках), интересно вспоминает о том, как Мейерхольд репетировал «Балаганчик» в Театре Комиссаржевской: «Когда Мейерхольд репетировал с нами за столом, он читал за некоторых сам, причем всегда закрывал глаза. Он делал это невольно и, прислушиваясь к чему-то невидимому, таким образом сосредоточивался. Эта сосредоточенность и творческий трепет режиссера помогли актерам в работе, для многих совершенно новой и трудной». «Сосредоточенность», о которой вспоминает Веригина, вероятно, сродни тому, что я наблюдал в Мейерхольде в ближайшие секунды после его блестящих показов: таинственные мгновения углубленной в себя внутренней жизни. Веригина вспоминает, что, стоя за кулисами перед первым открытием занавеса в «Балаганчике», полная волнения и трепета, она увидела в полутьме рядом с собой белую фигуру Мейерхольда — Пьеро и на мгновение испугалась, не развеет ли он обычной для него шуткой ее состояние, но, увидев его глаза в прорезь маски, она поняла, что это были уже глаза не Мейерхольда, в глаза блоков-ского Пьеро... Я однажды спросил В. Э., увлекало ли его когда-нибудь в ранний период его деятельности то, что называлось тогда «переживанием» и явилось начальным выражением рождавшейся «системы» Станиславского. Мейерхольд, к моему большому удивлению, ответил утвердительно. — И в Херсоне, и в Тифлисе, играя чеховских героев — Треплева, Астрова, Тузенбаха, Иоганнеса в «Одиноких», я экспериментировал сам над собой, сочинив в своем воображении те части пьесы, которые не шли на сцене, и целый вечер иногда играл за кулисами в течение спектакля этих действующих лиц в иных, не описанных драматургом положениях, предшествующих моему очередному выходу. Я чувствовал себя при этом необычайно приятно, но так как я был одновременно руководителем театра и ко мне поминутно обращались по всякой нужде и тем самым выбивали меня из «игры за кулисами», то я вскоре убедился, что, как ни странно, мне не мешают, а, скорее, помогают эти помехи. После них я с особенным удовольствием возвращался к своим «образам». Это было для меня одним из первых уроков подлинной театральности, полученных, так сказать, на собственной шкуре... (Запись от августа 1936 года.)

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
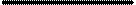
 В доме Шуйского собрались оппозиционно настроенные к царю, ненавидящие Бориса бояре-полузаговорщики. Они пьют, потому что это безопасней. За бражниками и кутилами не так следят Борисовы шпионы. Звенят чарки, ходит по кругу ковш. Общий гул голосов, шум, брань. В низкой палате полутемно. В углу, прикорнув на скамье, спит золотоволосый мальчик. Его вдруг толкают в бок. Он должен читать молитву за здравие царя. Без этого Борис не разрешает ни одного сборища. Хитрый Шуйский позволяет своим гостям говорить о царе что угодно, но отрок с молитвой всегда наготове. Срывающимся спросонья, но чистым, как родник, альтом мальчик среди всеобщего шума начинает читать молитву. Сначала его не слушают: все пьяны и возбуждены. Но постепенно шум стихает. Это колдовство чистого отроческого голоса. Вот уже совсем тихо, только, как ручей, льется этот хрустальный голос. Кое-кто крестится. Кто-то опустил голову на стол. Всех охватывает оцепенение похмелья. Один за другим гости расходятся. Остаются Шуйский и Пушкин, мрачный, возбужденный, озлобленный.
В доме Шуйского собрались оппозиционно настроенные к царю, ненавидящие Бориса бояре-полузаговорщики. Они пьют, потому что это безопасней. За бражниками и кутилами не так следят Борисовы шпионы. Звенят чарки, ходит по кругу ковш. Общий гул голосов, шум, брань. В низкой палате полутемно. В углу, прикорнув на скамье, спит золотоволосый мальчик. Его вдруг толкают в бок. Он должен читать молитву за здравие царя. Без этого Борис не разрешает ни одного сборища. Хитрый Шуйский позволяет своим гостям говорить о царе что угодно, но отрок с молитвой всегда наготове. Срывающимся спросонья, но чистым, как родник, альтом мальчик среди всеобщего шума начинает читать молитву. Сначала его не слушают: все пьяны и возбуждены. Но постепенно шум стихает. Это колдовство чистого отроческого голоса. Вот уже совсем тихо, только, как ручей, льется этот хрустальный голос. Кое-кто крестится. Кто-то опустил голову на стол. Всех охватывает оцепенение похмелья. Один за другим гости расходятся. Остаются Шуйский и Пушкин, мрачный, возбужденный, озлобленный. Понимаете, все роли в труппе разошлись, и Борис,
Понимаете, все роли в труппе разошлись, и Борис, Я любил наблюдать за ним после его «показов». Я заметил, что, сбежав по трапу в зал после своего «показа», В. Э. несколько секунд как бы отсутствует. Я много думал — почему? Очевидно, уже закончив «показ» и сойдя со сцены, он еще внутренне жил только что сыгранным. Из-за этого он часто пропускал начало повторения исполнителем показанного куска. И, только спохватившись и словно стряхнувши состояние, в котором он был при «показе», В. Э. поднимает голову и снова смотрит на сцену... И часто тут же опять бежит или быстро идет показывать или объяснять...
Я любил наблюдать за ним после его «показов». Я заметил, что, сбежав по трапу в зал после своего «показа», В. Э. несколько секунд как бы отсутствует. Я много думал — почему? Очевидно, уже закончив «показ» и сойдя со сцены, он еще внутренне жил только что сыгранным. Из-за этого он часто пропускал начало повторения исполнителем показанного куска. И, только спохватившись и словно стряхнувши состояние, в котором он был при «показе», В. Э. поднимает голову и снова смотрит на сцену... И часто тут же опять бежит или быстро идет показывать или объяснять...
 Я присутствовал при выступлении Андреевой и рассказал на другой день о нем Всеволоду Эмильевичу. Он с удовольствием выслушал меня, но потом, лукаво и хитро улыбнувшись, спросил, почему же я не рассказываю, как М. Ф. бранила его за режиссерский формализм. Оказалось, что я не был первым сообщившим ему об этом. И хотя в тот момент признание его как актера не было актуальным, а каждая шпилька по его адресу как режиссера сразу приплюсовывалась к его и без того огромному счету, но, мне показалось, он охотно простил Андреевой второе за первое. И мне всегда думалось, что, щедро взысканный и через меру избалованный всемирной славой как режиссер, Мейерхольд до конца жизни не был сыт своим успехом как актер. И в страстности его показов на репетициях тоже чувствовалось неутоленное актерское честолюбие.
Я присутствовал при выступлении Андреевой и рассказал на другой день о нем Всеволоду Эмильевичу. Он с удовольствием выслушал меня, но потом, лукаво и хитро улыбнувшись, спросил, почему же я не рассказываю, как М. Ф. бранила его за режиссерский формализм. Оказалось, что я не был первым сообщившим ему об этом. И хотя в тот момент признание его как актера не было актуальным, а каждая шпилька по его адресу как режиссера сразу приплюсовывалась к его и без того огромному счету, но, мне показалось, он охотно простил Андреевой второе за первое. И мне всегда думалось, что, щедро взысканный и через меру избалованный всемирной славой как режиссер, Мейерхольд до конца жизни не был сыт своим успехом как актер. И в страстности его показов на репетициях тоже чувствовалось неутоленное актерское честолюбие.
 Блестящая практика Мейерхольда-постановщика заслонила его актерскую деятельность, и у меня сейчас нет возможности подробно говорить о ней. Я касаюсь ее только в той мере, в какой она связана с его режиссурой, но совсем обойти ее нельзя. Став режиссером, Мейерхольд не просто сменил профессию. Правильнее сказать, что он растворил свою первую профессию во второй: он продолжал играть, показывая. Актерский опыт у него был очень большой. В своем первом провинциальном сезоне, в Херсоне, он из 115 спектаклей играл в 83. Кроме своих старых ролей, сыгранных еще в Художественном театре, он сыграл Иванова в «Иванове», Астрова в «Дяде Ване», Нарокова в «Талантах и поклонниках», Левборга в «Гедде Габлер», Арнольда в «Микаэле Крамере», Водяного в «Потонувшем колоколе*», клоуна Ландовского в «Акробатах», Берента в «Гибели «Надежды», Роберта в зудерма-новской «Чести», Ранка в «Норе», Основу в «Сне в летнюю ночь». В следующем сезоне он еще сыграл Актера в «На дне», Трофимова в «Вишневом саде» (таким образом, он играл во всех чеховских пьесах), Крамптона в «Коллеге Крамптоне», Рахмана в «Евреях», Шейлока в «Венецианском купце» Шекспира (изменив и, кажется, не очень удачно своему принцу Арагонскому), Чацкого в «Горе от ума», Штокмана в «Докторе Штокмане», Освальда в «Привидениях» и т. д. Все перечислить невозможно. Постоянными в его актерском репертуаре оказались такие роли, как принц Арагонский, Треплев и Тузен-бах, приготовленные еще со Станиславским, и это не случайно: они резко выражали грани его актерской индивидуальности. Треплева он играл, как бы сказали сейчас, «исповеднически», в нем было много автобиографического; Тузенбах был образцовой «характерной» ролью: по свидетельству такого компетентного знатока, как Л. Гуревич, он играл его в иной манере, чем Качалов, чья традиция исполнения утвердилась в нашем театре, менее лирически, более остро; и, наконец, буффонно-гротесковый, невообразимо смешной, нелепый, Дон Кихот в миниатюре — принц Арагонский. В этой роли Мейерхольд давал разгуляться своей страсти к преувеличениям, своему темпераменту и неистощимой выдумке.
Блестящая практика Мейерхольда-постановщика заслонила его актерскую деятельность, и у меня сейчас нет возможности подробно говорить о ней. Я касаюсь ее только в той мере, в какой она связана с его режиссурой, но совсем обойти ее нельзя. Став режиссером, Мейерхольд не просто сменил профессию. Правильнее сказать, что он растворил свою первую профессию во второй: он продолжал играть, показывая. Актерский опыт у него был очень большой. В своем первом провинциальном сезоне, в Херсоне, он из 115 спектаклей играл в 83. Кроме своих старых ролей, сыгранных еще в Художественном театре, он сыграл Иванова в «Иванове», Астрова в «Дяде Ване», Нарокова в «Талантах и поклонниках», Левборга в «Гедде Габлер», Арнольда в «Микаэле Крамере», Водяного в «Потонувшем колоколе*», клоуна Ландовского в «Акробатах», Берента в «Гибели «Надежды», Роберта в зудерма-новской «Чести», Ранка в «Норе», Основу в «Сне в летнюю ночь». В следующем сезоне он еще сыграл Актера в «На дне», Трофимова в «Вишневом саде» (таким образом, он играл во всех чеховских пьесах), Крамптона в «Коллеге Крамптоне», Рахмана в «Евреях», Шейлока в «Венецианском купце» Шекспира (изменив и, кажется, не очень удачно своему принцу Арагонскому), Чацкого в «Горе от ума», Штокмана в «Докторе Штокмане», Освальда в «Привидениях» и т. д. Все перечислить невозможно. Постоянными в его актерском репертуаре оказались такие роли, как принц Арагонский, Треплев и Тузен-бах, приготовленные еще со Станиславским, и это не случайно: они резко выражали грани его актерской индивидуальности. Треплева он играл, как бы сказали сейчас, «исповеднически», в нем было много автобиографического; Тузенбах был образцовой «характерной» ролью: по свидетельству такого компетентного знатока, как Л. Гуревич, он играл его в иной манере, чем Качалов, чья традиция исполнения утвердилась в нашем театре, менее лирически, более остро; и, наконец, буффонно-гротесковый, невообразимо смешной, нелепый, Дон Кихот в миниатюре — принц Арагонский. В этой роли Мейерхольд давал разгуляться своей страсти к преувеличениям, своему темпераменту и неистощимой выдумке.